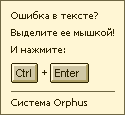|
В конце последнего урока, за минуту до звонка, я еще раз напомнил своим второклашкам:
— Ребята, не забудьте завтра принести макулатуру. Все помнят?
— Все!
— Все!
— Все!
— Помним, не забыли!
— Очень хорошо, — сказал я. — Молодцы. Я на вас надеюсь.
Худенькая голубоглазая девочка па второй парте в левом крайнем ряду — Оля Сорокина — подняла руку и робко спросила:
— Николай Андреевич, а... по сколько приносить... макулатуры?
Раздался звонок. Ребята засмеялись и зашумели:
— Полный ранец неси! Не надорвешься.
— Мешок!
— Вагон и маленькую тележку!
— Тащи, Сорокина, все, что дома найдешь!
— Ага, все подряд, что под руку попадет! Поняла?
— Тихо, ребята, успокойтесь, — попросил я. — Сорокина правильно спросила, и смеяться над этим не нужно. Берите столько макулатуры, чтобы нетрудно было нести.
— А сколько это?
— Ну., два, три килограмма. Девочки могут взять немного поменьше, ребята — чуть побольше. Только обязательно попросите родителей перевязать бумагу шпагатом. Иначе — трудно будет нести. Порастеряете.
— Ладно!
— Поняли, Николай Андреевич!
— Перевяжем! Не растеряем!
И напоследок, чтобы подзадорить ребят, я сказал:
— Не забудьте, что все классы соревнуются за первое место, а мы, кроме того, соревнуемся, как всегда, еще и со вторым «г».
— Не беспокойтесь, Николай Андреевич!
— Постараемся, не подведем!
— Побьем второй «г»!
— Ну, хорошо. Тогда — до завтра. Урок окончен, — объявил я. — До свидания, ребята!..
Назавтра первым по расписанию у нас было чтение. Я приготовил учебники, журнал. Но прежде чем начать урок, спросил класс:
— Ну что, ребята, все принесли макулатуру?
— Все-е-е! — слилось в один торжествующий возглас.
— Во дворе сложили!
— В наш ящик — туда, где табличка.
— Побьем второй «г»!
— Молодцы, — похвалил я ребят. — Потом узнаем, сколько мы сдали, и я вам объявлю... Ну, а теперь начнем урок. Все приготовились?
Я сделал перекличку. В классе не было только Оли Сорокиной. Да я сразу, как только вошел, увидел, что ее место свободно.
Вызвал отвечать урок первого ученика: на дом было задано стихотворение наизусть. Ученик вышел к доске, начал читать... И вдруг — стук в дверь. Несмелый такой, виноватый...
— Подожди, пожалуйста, — остановил я ученика. Подошел к двери. Отворил.
У порога стояла Сорокина с охапкой макулатуры. Вся растрепанная и крайне удрученная.
— Во, Сорокина объявилась.
— Глядите, Сорока прилетела.
— Еще и в клюве чего-то принесла, — послышался шепоток за моей спиной.
Она даже поздороваться забыла. Так и стояла перед дверью, прижимая к себе скомканные газеты и журналы н не решаясь войти в класс. Я понял, почему она опоздала, и сказал, отступая в сторону:
— Здравствуй, Сорокина. Проходи.
Она встрепенулась, благодарно посмотрела на меня и заговорила тихо, чтобы ребята не услышали и не осмеяли ее:
— Извините, Николай Андреевич. Я опоздала... Я нечаянно... я... у меня порвалась веревочка... все рассыпалось, и я... подбирала макулатуру, а она... — Сорокина готова была вот-вот расплакаться — не столько, видно, из-за опоздания на урок, сколько от стыда и досады, что она такая растеряха, что так неловко, несуразнв вышло с этой несчастной макулатурой.
— Ничего страшного. Проходи на свое место. Лишь после этого она переступила порог.
— А куда... положить?
На нее зашикали с передних парт.
— Чего это ты?
— Куда притащила?
— Надо было во дворе положить, в наш ящик, а ты...
— Ну и Сорока. С тобой не соскучишься. Я обернулся, успокоил класс:
— Тихо, ребята. Ничего не случилось. Тихо. Сорокина поежилась, виновато захлопала ресницами, прося снисхождения.
— Положи пока вон туда, — показал я в угол под классной доской. — Садись... Продолжим урок...
Потом была физкультура. Занимались не в спортзале, как зимой, а на окраине нашего микрорайона, посреди весенней лесной поляны. Природоведение мы провели в кабинете биологии, чтобы по ходу урока посмотреть фильм о сибирских зверях и птицах... Одним словом, позабыли мы все про макулатуру Оли Сорокиной, и пролежала в классе ее стопка газет и журналов до самого конца занятий. Я снова обратил на нее внимание, когда уже отпустил ребят но домам и остался с двумя дежурными, они должны были прибрать комнату. Ребята принесли веник и ведро с водой, швабры и тряпки из мешковины, принялись мести и протирать полы. Я уложил свой портфель и попросил их:
— Когда закончите, не забудьте вынести и вот эту макулатуру — долю Оли Сорокиной.
— Не забудем.
— Вынесем.
Один из мальчишек прошел в угол, стал подымать с пола и складывать на широкий подоконник пожелтевшие газеты и несколько толстых журналов.
— Николай Андреевич, а тут.... какая-то тетрадь. Может, она нужна? Посмотрите.
Это были две общие тетради, сшитые в одну. Незатасканные, опрятные, в коричневых коленкоровых обложках. Я положил их на стол. Полистал... Тетради были исписаны угловатым, некрасивым, но разборчивым почерком. Исписаны полностью, до конца: ни одного чистого листа, ни одного пропуска... Я открыл первую страницу. На ней, прямо поверху, было четко и крупно выведено: «Отослать моему сыну Михаилу, но адресу...» Чуть пониже: «Мои последние письма». Дальше шла обычная скоропись... Тетради заинтересовали меня. Что это? Действительно — письма, чей-то дневник? Или — рукопись литературного сочинения, которое нечаянно затерялось между старыми журналами и случайно попало в стопку макулатуры? Может, Олины родители завтра хватятся этих тетрадей и все дома переворошат в их поисках? Да, может, уже и хватились... Конечно, тетради нужно забрать и вернуть Сорокиной. Или хотя бы выяснить — случайно, нет ли оказались они среди макулатуры. Я открыл портфель и сунул туда странную находку, чтобы завтра возвратить Оле...
Вечером, после всех домашних дел, я, как обычно, сел на кухне проверять школьные тетради. Вместе с ними достал и эти — «из макулатуры», отодвинул их от себя, на угол стола. Прежде всего проверил и оценил труды моих грамотеев. И порадовался над ними, и подосадовал, и повздыхал от сожаления, что далеко не всем легко дается наш русский язык. После всего – выпил горячего чаю и хотел заняться другими делами. Да не удержался и все-таки взял в руки темно-коричневые тетради. Я понимал: если это и в самом деле — письма, то читать их — чужие, тебе не предназначенные, — негоже. Неловко. По кто-то другой настойчиво твердил мне: «Чего робеешь? Чего зря совестишься? Да, может, это вовсе и не письма — в том смысле, как принято .понимать. Может, все это и написано было для того, чтобы еще кто-то увидел и прочел, а не один только сын Михаил. Ну, а коли уж тетради выбросили прочь, то,, выходит, они теперь ничьи. Любой бери и читай. Так что и робеть нечего».
Я стал читать. Строку, две... десять строк. Половину страницы. Всю первую. Потом — и вторую, и третью... И уже не смог остановиться, оторваться... Не заметил, как с кухни ушла жена, не слыхал, как они с сынишкой улеглись в комнате. Затихли и уснули, как над моей головой кукушка в деревянных, похожих па лесную избушку, ходиках возвестила полночь и как по улице, поспешая в парк, пронеслись последние троллейбусы
***
Вот что это было.
«3 октября 197... года.
Сын мой Миша! Не знаю, получишь ли ты когда-нибудь эти мои письма или нет, но все равно пишу. Письма, наверно, получатся длинные, потому что писать их собираюсь долго, сколько смогу, успею. Да это скорей даже и не письма, а рассказ про мою горемычную, неудачную жизнь. Жалеть себя не собираюсь. Чего теперь жалеть? Что было, то прошло, его не исправить. Не подумай и так, будто я хочу оправдаться за то, что ты сперва рос без меня, потом на ноги становился тоже без батьки. Батька в это время был где-то в далеких краях, или, как еще говорят, «в краях, не столь отдаленных». Нет, Миша, я не оправдываться. Просто должен тебе рассказать, как все было, чтоб ты правду знал. Ты теперь большой человек, ученый, кандидат наук, может, и выше пойдешь, я про тебя в областной газете читал и твоих две статьи читал. Мужик ты, вижу, с головой, будешь и дальше расти по службе, это точно. Зачем же тебе груз на душе? Зачем тебе мучиться, думать, что отец твой такой да разэтакий, на войне оказался трусом, после войны стал уголовником? Не хочу, чтоб ты так думал всю свою жизнь. Ты должен знать правду и. если надо, заткнуть рот всяким злым языкам, трепачам разным. А кроме меня, Миша, никто тебе правду не скажет, а я скажу, как на духу, ничего придумывать и приукрашивать не буду. Может, и ты сам про меня все эти годы плохо думал, так плохо, что дальше некуда. И давно меня живым захоронил. Для себя, в своей памяти. Не надо, Миша, спешить, не надо судить человеческую жизнь одним махом, с кондачка. Не знаю, как там и чего говорила тебе про меня твоя мать.. Это ее дело. Может, она думала, что я вернусь к ней из Сибири в Крым, в наш поселок? Но я честно тебе скажу, почему не вернулся, не мог вернуться.. Я бы тебе давно написал. Я же знаю, что ты приехал сюда, в область, еще три года назад, сразу, как только тут открылся политехнический. Газеты-то я регулярно почитываю. Было там и про новый институт, и про его передовых преподавателей, которые проявили сознательность и приехали в сибирский город с теплого «запада». Но я тебе не писал. Не хотел навязываться, беспокоить напоминаниями про себя. Пускай, думаю, пообвыкнет, обживется на новом месте, втянется в свою работу. И так, думаю, хватает забот, не до меня ему. Теперь вот решил не откладывать, а то будет поздно. С того света не напишешь, ничего уже не объяснишь и за себя не постоишь.
Так вот, Миша, пишу я тебе из районной больницы, пишу в толстую тетрадку, так верней, надежней, не потеряются письма, а будут они длинные. Многое, Миша, напоследок тебе скажу. Про целую жизнь коротко не поведаешь... В эту больницу попадаю уже не первый раз. Но теперь попал надолго, если вообще выцарапаюсь отсюда. Держусь на кислороде. Болезнь у меня, Миша, интересная, с красивым названием — силикоз. Как у нас на руднике говорят — помесь козы с силикатным кирпичом. Эта болезнь интересная тем, что сам ты весь вроде бы и здоровый, ничего нигде не кольнет, а легкие — все, закаменели от подземной каменной пыли.
Я же тут, на руднике, уже давным-давно. Добывал плавиковый шпат. Вот и добыл себе эту болезнь с красивым названием.
Лежу в тесной палате. Восемь коек, и нас восемь, болящих. Покуда все, перекур. По коридору шаги. Врачи идут. Обход. Продолжать буду потом. Прячу спою тетрадку под матрац, а то еще подумают — жалобу сочиняю.
Пишу в сончас того же дня. Тишина, покой. Мужики в палате все завалились на койки. Похрапывают. Никто не мешает.
Ну вот, Миша. Все, конечно, пошло с войны. С нее, проклятой, начала ломаться, крушиться наша жизнь. Тебя тогда, к счастью, еще на свете не было.. Жил я себе да поживал в нашем тихом селе Вербежичи, недалеко от Брянска. Но грянула в сорок первом война. Тут она и застала нас. И меня, и твою будущую мать, Полину. Разве могли мы тогда знать, какая она будет жестокая, кровавая и долгая — эта война?..
Сперва, конечно, всюду была большая растерянность. Немец наступал но всему фронту, каждый день рвался все дальше на восток, занимал наши города и села, а Красная Армия билась насмерть, несла большие потери н отходила под ударами врага. Но нас, военнообязанных, первое время даже не призывали в армию, не отправляли на фронт. Мы ждали... Только 30 августа из нашего района мобилизовали сразу двести человек. Свезли в город Людиново. Собрали на станции, для отправки. Это, Миша, невозможно забыть и невозможно передать. Людей на станцию стеклось тысячи. Мобилизованные с котомками, а вокруг них — женщины, девушки, старики, старухи, детишки мал-мала меньше. Шум, гам, выкрики, песни, пляски под гармошку, слезы тут и там. Горько, больно глядеть, а поправить, изменить ничего нельзя. Война! Когда до отправления поезда осталось несколько минут, на станции поднялось такое, что и обсказать не берусь, не с моими способностями. Поглядел бы на это какой-нибудь писатель да потом описал, оставил такую картину людям — для.памяти на долгие-долгие года. Крик, плач, причитания так и захлестнули перрон. Женщины рыдали горько и отчаянно. Плакали ребятишки. Сил не было все это видеть п слышать. Сердце сжималось. Как будто бечевквй Сдавливало горло. Все плакали, чего там скрывать, и мужики тоже, все прощались навсегда с матерями, женами, сестрами, невестами, малыми детишками, да теми, которые уже были постарше. Мы же знали, куда идем, знали, что многие из нас никогда уже больше не вернутся домой, не обнимут своих родных. Только никто про это не говорил и старался не думать. Все, конечно, обещали скоро разбить врага и вернуться живыми.
Я тогда еще был не женатый. Провожали меня мать, сестра Люба и младший брат Михаил, неполных шестнадцати годов, еще не призывного возраста. Пришла на станцию с нами, как могла не прийти, и моя невеста Полинка, твоя, Миша, будущая мать. Мы с ней уже целый год гуляли вместе, любились, в кино ходили, на танцы, на вечерки. Я плотничал в колхозе, она все умела — и за скотиной ухаживать, и в поле на любой работе управляться. Отцов у нас не было, ни у нее. ни у меня. Наш отец погиб на войне с японцами, на Халхин-Голе, Полинкнн умер три года назад. Она жила с матерью. Осенью мы собирались пожениться, сыграть свадьбу, как полагается в деревне. Да вот не успели, не дождались этого дня... На станции Полинка стеснялась моей матери, стеснялась посторонних людей, все стояла рядом, чуть бочком ко мне, прижимала руки к груди, перебирала пальцами платочек и утирала слезы. Па ней было шелковое сиреневое платье, в нем она часто приходила ко мне на свидания. И теперь вот надела, па прощанье. Так мы стояли. А когда объявили отправление, Полина первой, вперед моей матери и сестры, как обхватила меня, как вцепилась в мою тужурку — шага не могу сделать... Не помню, как вырвался, освободился из ее рук и заскочил в товарный вагон, полно в нем было нашего брата — новобранцев. И весь эшелон — одни новобранцы. Поезд уже тронулся, и я заскакивал на ходу.
Повезли нас на юго-восток, в сторону Брянска. Но перед Брянском поезд наш неожиданно остановился в лесу. Дальше ехать было нельзя. Город бомбили. Там гремели сильные взрывы и завывали самолеты. В лесу мы простояли часа два, если не больше. Уже перед сумерками эшелон двинулся дальше. Въехали в город. Он горел. В разных сторонах были видны большие пожары. Горело и рядом с вокзалом. Наверно, какие-то склады. Сильно повредило в нескольких местах и железную дорогу, по ее успели починить. В Брянске пас не задержали и поскорее отправили дальше. Немцы могли опять налететь, наделать беды. Да н другие воинские эшелоны шли следом за нами.
4 октября, утром.
Ехали тревожно, с короткими остановками. Утром прибыли в Навлю. Тут нам приказали разгружаться и объявили, что отсюда мы должны идти пешком — на Комаричи, а оттуда еще четыре километра до совхоза «Владимирский». Нас быстро построили, и мы двинулись. В Комарпчах поняли, почему эшелон дальше не пошел. Прямо перед этим, казалось — ну только что, на Комаричи был сильный налет. Все пути на станции, от семафора до семафора, были прошиты, разворочены тяжелыми бомбами, живого места не осталось на земле. Разбиты были паровозы, вагоны, цистерны. Из одной цистерны потихоньку бежал спирт. Кто-то из наших мобилизованных это быстро обнаружил, и многие не устояли, кинулись пить его. Пили, кто сколько хотел. И со многими, конечно, случилась беда. Не рассчитали свои силенки, полегли пластом, как мертвые. Горько и жалкобыло смотреть на них. на всю эту разбитую станцию. А новые мобилизованные все подходили и подходили в Комарпчп. Я про себя поражался: это сколько же народу подняла война! Сколько людей оторвала от семей, от пашен, заводов и фабрик!.. Спирт я не пил совсем и стал вместе с другими тормошить, поднимать и приводить в себя тех, кто запьянел. Нам же надо было идти дальше.
В совхозе «Владимирский» получили новый приказ. Отсюда нам дали направление в сторону Горелого леса. Это в районе станции Клюковникп, недалеко от нее. Разобрались норотно и опять — ноги в руки. Потопали. По дороге все гадали, конечный это для нас пункт или придется еще куда-то пылить.
Пришли в Горелый лес. Облегченно вздохнули: дальше отправлять нас не будут, остановка надолго. Тут организовался большой учебный центр. И собрали в нем нас, таких новобранцев, не одну тысячу. Выдали обмундирование. Стали обучать военному делу. Обучали, надо сказать, не очень старательно, а то и вовсе спустя рукава. Видно, не было за этим хорошего, строгого глаза. Кормили тоже не очень-то. Но это мы понимали. Война, немцы идут по нашей земле, жгут города и села, захватывают продовольствие, сейчас каждая мерка муки, пшеницы, проса, кукурузы должна быть на счету, и в первую очередь все надо отдавать фронту, тем, кто сейчас на передовой, а мы пока — в тылу, мы как-нибудь перебьемся. Кормили два раза в день. На роту выдавали десять тазиков каши, а хлеба — одну буханку на пятерых. Вторая кормежка была поздно, уже ночью. Тут-то и надо было глядеть в оба, чтобы куда-нибудь не подевался один из десяти положенных роте тазиков с кашей. Чуть зазевался — и уже не досчитаешься. Но ребята из пашен роты тоже были не промах... Жили мы даже и не в палатках, а в обыкновенных шалашах из дубовых веток. А осень пришла дождливая. По ночам капало на голову. К утру все было сырое — гимнастерки, брюки, шинели. Портянки подстилали под себя, чтоб хоть они были сухими. Но пуще всего донимали вши. Вот уж повоевали с ними так повоевали...
Сидеть на одном месте, в этом мокром Горелом лесу, быстро надоело, и мы все чаще стали спрашивать наших командиров, когда же нас пошлют на фронт, на передовую, бить проклятых фашистов. Отвечали нам неопределенно: «Ждите, придет и ваше время. Долго не засидитесь. Теперь засиживаться некогда». В один из дней сентября немцы страшно бомбили Курск. Мы узнали, что там было много погибших и очень'много раненых. После этого все стали еще сильнее рваться на фронт.
И вот некоторым из нас объявили сбор. Попал в это число и я. На все сборы дали два часа. Нас отобрали целый батальон. Построили и — в путь, шагом марш. Из Горелого леса мы быстрым броском вышли на станцию Клюковники. Погрузились в эшелон. И повезли нас туда, откуда прибыли. На запад повезли, в сторону Брянска. Но оружия нам почему-то не дали. И мы всю дорогу удивлялись, в толк не могли взять: это как же так? Едем на фронт — и без винтовок. Ну да ничего, утешали себя, до ближайшего пункта доедем, и там, наверно, выдадут. Какой боец без винтовки?
Никуда мы в том эшелоне не доехали. Под Навлей попали под сильнейший воздушный налет. Никому из нас такое видеть и переживать еще не приходилось, правду говорю. Сперва бомбы попали в последние два вагона, и они загорелись. Потом несколько раз ухнуло где-то впереди, наверно, раскидало рельсы. Машинист» резко затормозил и остановил эшелон, чтобы мы могли повыскакивать из вагонов. Но было уже поздно. Самолеты с жутким воем пикировали на нас и с малой высоты кидали бомбы, густо били из пулеметов. Грохот и гул стоял такой, что чуть не лопались .перепонки. Летели в стороны доски и щепки, куски железа и ошметки одежды. Падали убитые, кричали раненые. Весь эшелон загорелся. Кто пошустрей, посноровистей да на ноги полегче — те все-таки успели отбежать подальше от полотна и укрыться, переждать налет. Но большинству спастись не удалось, так и полегли ребята около дороги. За какие-то пятнадцать или двадцать минут от эшелона ничего не осталось. Из нашего батальона, как потом сосчитали, уцелело всего семнадцать человек. Представляешь, Миша? Семнадцать из трехсот! Когда вспоминаю про это — до сих пор мороз по спине. Жутко было подходить к путям и видеть по сторонам от горевшего эшелона своих товарищей мертвыми, изуродованными. Только что они все были живые. Разговаривали, смеялись, курили, писали письма домой, обещали стойко сражаться, мечтали дожить до победного конца войны, потому как верили, что Гитлер никогда не сможет покорить нашу Россию, как бы он, гад, ни старался. И вот нету больше наших товарищей, молодых бойцов... Как я остался живой —не помню. Просто случайно. Просто повезло. Самому не верилось. Подумал: это, наверно, Полинка моя счастливая. А потом говорю себе: погоди загадывать, вся война еще впереди, это еще только начало... Собрались мы, кто уцелел, и стороной oт железной дороги, лесом пошли в Навлю, не зная, что нас там ожидает.
Вечером того же дня.
В Навле была какая-то неразбериха. Никому мы тут оказались не нужны, никто не знал, что с нами делать, куда нас теперь посылать — или дальше, на Брянск, или обратно, в Клюковники. Предупреждали, что фронт приближается к Брянску, и скоро, наверное, немцы его займут. И тогда я решил срочно добираться до своего военкомата, в Людиново, чтобы там уж наверняка получить направление на фронт, в одну из действующих частей.
До Людинова добрался благополучно. И ушам не поверил. К западу от города, где-то далеко за горизонтом, за лесами, уже гремела орудийная канонада, фронт был совсем близко. Повезло мне — застал на месте военкома Козлова. Рассказал, как разбомбили наш эшелон, сколько погибло солдат, еще не вооруженных, только что обученных в Горелом лесу, за Клюковипками. И спросил, что мне теперь делать, какой будет приказ. Козлов на минуту задумался, внимательно посмотрел мне в гла-зз и сурово сказал:
«Останешься в немецком тылу для подрывной работы. Мне надо в последнюю группу подобрать девять боевых хлопцев. Крепких, надежных. Семеро уже есть, подобрал. Ты будешь восьмой. Останешься? Не побоишься?»
«Нет, — ответил я, — не побоюсь. Можно воевать с фашистами и у них в тылу, коли это надо, коли такой приказ. Я готов».
Военком подал мне руку.
«Ну что ж, Сорокин, я на тебя надеюсь. Верю, что не подведешь».
«И куда мне теперь?»
«Сперва сведу тебя с хлопцами вашей группы. И с вашим командиром. Потом договоримся и обо всем остальном».
«А домой на денек можно будет сбегать? — заикнулся я. — Своих проведать».
«А ты думаешь — у нас есть этот денек? — Военком нахмурил брови, потер небритый, черный от щетины подбородок и вздохнул. — Слышишь, где гремит? Совсем рядом. Так что, брат, нам уже не до свиданий. Только бы успеть приготовиться, как надо. Лишнего времени у нас уже нету. Ни часа, ни минуты. Ясно?».
«Ясно, товарищ военком. Готов выполнять приказ».
На другой день Людиново заняли немцы.
Так началась для меня война...
Передохнул немного. Пишу с перерывами, устаю быстро, дыхания не хватает. Отложу тетрадку, откинусь к стенке, на подушку, посижу так — и опять вроде бы ничего, дышать можно, силы откуда-то берутся. А бывает совсем хреново, особенно почему-то вечерами и под утро. Тогда зову дежурную сестру, и она приносит мне кислородную подушку. Так и тяну помалу. Сколько смогу — протяну. Помирать все-таки неохота. Жил-то я, сынок, по-человечески совсем немного. Остальное все...
Заворочались на койках мужики. Сейчас поднимутся и чай будем пить. Свой, в палате. Больничный — бурда, желтоватая водичка. Мы привыкли свой заваривать. Хороший чаек тут, в больничной палате, — все одно, что махорка на фронте, в окопах. Без него никак нельзя. Да раньше я этого не понимал. Чай научился ценить в Сибири. Она вообще многому учит. Это же — Сибирь! Ты вот тоже почему-то решил приехать сюда, тоже стал сибиряком. Надолго или нет задержишься, не знаю, но польза от этого будет, сам потом поймешь.
8 октября.
Продолжаю. Да не сразу. Три дня не брался, под матрацем лежала моя тетрадка. Не до писаний было. Опять прижала меня, взяла за горло треклятая хвороба. Совсем задыхался. Сегодня отпустило. Встаю, хожу потихоньку, глотаю таблетки. Кислородная подушка так и висит над моей кроватью. Спасительница.
Ну вот, Миша. В первых числах октября немцы захватили Людиново, стали везде наводить свой «'новый порядок», так они это называли. Взялись грабить город и вывозить народное добро, что только можно было вывезти. В центре Людинова подняли флаг с фашистской свастикой. Напротив, немного в стороне, закопали пять высоких столбов, сколотили пять виселиц, в холодный дождливый день согнали сюда людей и на виду у всех, для устрашения, повесили пятерых наших. Четверых нарней и одну девушку. Три дня и три ночи висели они, раскачивались на ветру, под дождем. Рядом охрана, автоматчики. Не подходи! Подойдешь — убыот. За городом, а то и прямо в городском саду каждый день кого-нибудь расстреливали. Тут-то и начались наши муки да мытарства, горе да беда. Тут и узнали мы, что такое война и какой он есть, немецкий «порядок», истинный гитлеровский фашизм.
Как я сказал, в тылу нас оставили девять человек. Такая была наша группа. Остались, конечно, и другие группы, но мы знали только свою и своего командира, десятого, а он уже имел связь дальше, с кем надо.
В тот день, последний день перед приходом немцев, я и узнал, кто же будет старшим нашей группы здесь, в тылу врага. Военком Козлов привел меня в одну из комнат в самом конце коридора и говорит:
«Вот, Сорокин, твой командир».
Смотрю — и глазам не верю. За столом сидит в военной форме, в портупее односельчанин мой, Сергей Стебельков. Он работал в нашем колхозе агрономом. Три года назад Сергея призвали в армию, а его мать так и жила в нашем селе. Он писал ей, что побывал на финской войне и стал командиром. Перед самой войной приезжал домой на короткую побывку, показался в селе. Куда потом уехал — никто не знал. Он и сидел за столом — Сергей Стебельков.
«Узнал?» — спрашивает военком.
«Да как же, — говорю, — не узнать? Это наш колхозный агроном».
«Бывший агроном, — поправляет меня военком. — Теперь — младший политрук Стебельков. А с завтрашнего дня — командир подпольной диверсионной группы в немецком тылу. Это тебе пополнение, Стебельков. Предпоследний, восьмой».
Я сдвинул каблуки, принял стойку «смирно», отрапортовал:
«Товарищ командир! Рядовой Сорокин в ваше распоряжение прибыл».
Стебельков поднялся, вышел из-за стола. Коренастый, крепкий, весь — как сбитый. Одернул гимнастерку, поправил портупею, сам подтянулся.
«Вольно».
Потом подошел ко мне, по-дружески обнял за плечи, улыбнулся.
«Здравствуй, Терентий. Здравствуй, земляк. Рад тебя видеть».
«Здравствуйте, Сергей Титыч. Я тоже рад. — Он был старше меня года на четыре, но в селе его называли только по имени-отчеству, уважительно, он же был агроном, самая главная фигура в колхозном полеводстве.— Не ожидал, — говорю, — вас тут встретить».
«Как видишь — опять свела судьба. Только теперь по другому делу. Будем с немцами воевать. У них же в тылу. Не побоишься?»
«А чего бояться? Воевать везде можно, если умеючи, —отвечаю ему. — Была бы голова на плечах. А на своей земле бить немца еще сподручней. Родные стены всегда помогают».
«Я тоже так думаю».
«Поэтому вас тут и оставляют, — говорит военком Козлов. — Ну, перетолкуйте о своих будущих делах минут пятнадцать. Потом сразу ко. мне заходите. Времени у нас остается совсем мало».
Военком говорил правду. Грохот орудий нарастал. Фронт все приближался.
Вечером мы со Стебельковым сняли военную форму, переоделись в гражданское...
Первое время после прихода фашистов мы, наша группа, только присматривались к обстановке — что, где располагали немцы, куда передвигались, какие подтягивали силы. Мы держали связь со своим командиром, но никаких действий группа не предпринимала, себя не обнаруживала. Вроде бы никакого подполья, никаких партизан тут не осталось, нету и в помине. Две недели я прожил в Людннове, на окраине города, у одного старика-сапожника, под видом его племяша. Стебельков сюда меня определил. С сыном этого старика Сергей воевал в Финляндии, дружил, и тот там погиб. Дед был надежный, мы ему доверяли, он спас меня в своем доме от нескольких облав. Немцы, гестаповцы, часто проводили облавы, обыски. Искали коммунистов, комсомольцев, партизан. Хватали наших людей по малейшему подозрению, а бывало — и по доносам разных продажных шкур, которые при нашей власти только притворялись хорошими, советскими. Расстрелы за городом не прекращались.
Два раза командир наш. Стебельков, приходил к деду, вроде как сапоги починить. Мы подолгу сидели с ним в потайной каморке и разговаривали. Я все спрашивал его: «Ну когда же. Сергей Титыч, мы делом займемся, себя покажем, начнем рассчитываться с фашистами? Не возможно же глядеть н слышать, что они творят, как издеваются над нашими людьми, глумятся над нашей землей. Сколько же терпеть?»
«Потерпи немного, Терентий, потерпи, — говорил он, а у самого щеки подрагивали от волнения и гнева. — Скоро мы за них возьмемся, начнем за все рассчитываться. Скоро дадим гадам прикурить. И жарко им будет, и холодно... А с тобой давай договоримся. Зови меня просто Сергеем. Хотя я и твой командир, но никакой не Титыч и не Стебельков. Просто Сергей».
Мы ждали, с нетерпением ждали первого большого дела. И в честь наступающего праздника Октября подкинули фрицам кой-какие подарки. Сперва подожгли большие склады с ихними шмутками и всякой жратвой. Потом взорвали за городом нефтебазу. А через день на одном из перегонов пустили иод откос эшелон с танками и орудиями. Ночью пустили. Вот это, скажу тебе, была картина. Никогда раньше такой не видел. Как полетело все с высокой насыпи, как стало греметь, взрываться, а потом как заполыхало! Пламя — выше леса. Хоть грибы собирай, если бы в грибной сезон. Короче — навели шороху.
После этого, правда, нам стало труднее жить. Немцы озверели. Провели несколько облав подряд. Прочесали местность вокруг Людинова. Пришлось нам на какое-то время затаиться, чтоб ненароком не навести немецких овчарок и гестапо на свой след. И тут наш командир порешил, а может, кто-то старший так ему приказал, кое-кого из нашей девятки отправить в села, вроде как рассредоточить нас. Мне было велено идти домой, в Вербсжичи, распустить там слух, будто я дезертировал из Красной Армии, не захотел воевать против немцев. И я ушел в Вербежнчи. Пробирался осторожно, чтобы с немцами не повстречаться, не напороться на посты. Шел — а на душе было муторно. Все думал: как же это я заявлюсь, домой, в село, когда товарищи мои, с которыми призывался, воюют на фронте, а иные уже и полегли? Что скажу своим? Неужели поверят, что и правда дезертировал я, сбежал из армии, испугался фронта? Нет, никогда не поверят. А мать, если поверит, она же на порог меня не пустит. «Предатель! — скажет. — Вон из нашего дома! Не наш ты. Нам такой не нужен». Мать сразу отречется от дезертира. А как же быть? Ничего другого сказать я не имею права. Приказ надо выполнять.
9 октября.
Дальше было так.
В село пришел вечером, потемну. Околицей, по-за огородами, садами, пробрался к нашему дому. Гляжу — одно оконце слабо светит во двор. Подошел из-за сарая, постучал тихонько, сам стою у окна. Занавеска отодвинулась, выглянула сестра Люба. Узнала меня. Слышу — вскрикнула: «Ой.Тереша наш! Мама, там Тереша!» Мать кинулась к окну, прильнула к стеклине, глаза такие испуганные. Потом отпрянула, всплеснула руками, перекрестилась, тоже заойкала. Обе с Любой кинулись открывать мне двери, а в окошке появился Миша. В общем, целый переполох, как я и знал наперед.
В дом вошел, порог переступил — тут мать с Любой и заголосили, и запричитали. Ой да откуда же это я, да чего же я и когда от своих отбился, чего же такое со мной приключилось и как это я к немцам не угодил, остался живой-невредимый?.. Кое-как я их успокоил. Но сказать, будто дезертир я, вроде бы из армии сбежал, язык не поворачивался. Подумал — такое тут поднимется, что и не рад буду, беды потом не оберешься, так, чего доброго, и до сердечного удара мать можно довести. Пожалел я их, честно признался. Усадил всех, сам сел около керосиновой лампы и говорю спокойно: «Не бойтесь, не дезертир я, не предатель своей Родины. Службу начал, как надо. Прошел учебу в Горелом лесу, под Клюковииками. Оттуда повезли нас на фронт. По по дороге, перед Навлей, немецкие самолеты разбомбили наш эшелон. И я опять пришел в свой военкомат, в Людиново. Тут и получил новый приказ: остаться в немецком тылу, в нашем же районе. До этого дня жил в Людпнове. Теперь дома поживу. Сколько — не знаю. Сколько надо будет. Поняли, что к чему? Все, больше ничего не спрашивайте, ничего не скажу».
Каюсь, не исполнил я тогда приказания Стебелькова. Не смог обмануть мать, сестру с братом, зря возвести на себя напраслину перед ними. Зачем, подумал, эта неправда? Свои же и так не выдадут.
«Поняли», — шепотом, чуть слышно говорит Люба, и я вижу — губы ее подрагивают, наверно, от страха за меня, за всех нас.
Миша кивает молча. Похудел он и повзрослел, глаза такие серьезные. А мать как заплачет.
«Так это же... так они же, сынок, поймают тебя, немцы-то, могут расстрелять за это... самое... или в Германию отправят Как же ты жить будешь? Как от них спрячешься?
«А я прятаться не буду. Жить буду в открытую. Для всех в селе я — дезертир. Понятно? Так всем и говорите, что я дезертировал из армии, скрылся и пришел домой. Иначе немцы меня, конечно, загребут».
«Как же это, Тереша! — чуть не задыхается мать. — Как нам после этого людям в глаза смотреть? Они же нас проклянут. Житья нам, сынок, больше не будет в селе. От позора хоть в могилу заживо лягай».
«Да, братик, мама правду говорит. Этого позора мы не переживем», — жалуется Люба и тоже плачет.
«Придется пережить, — говорю. — Другого выхода нету. Иначе — загребут, как пить дать».
Молчим. Сидим, будто заброшенные в глубокую яму, из которой нету выхода, и долго молчим. Тяжко так, тревожно на душе. И правда — выть охота. Да мне этой слабости показывать никак нельзя. Даже перед своими. Я же боец, подпольщик.
«Ты по порядку расскажи, где и как все было, — не выдерживает молчанки, просит Миша. — Где обучался, как вас разбомбили».
«Может, вы меня сперва подкормите чем-нибудь с дороги? А тогда уже буду рассказывать».
«Ой, прости, сынок, — спохватывается мать. — Прости, родненький. Сейчас мы тебя нагодуем, сейчас».
Они с Любой кидаются одна к печке, другая к шкафу, готовят, что есть, на стол. А я спрашиваю про свое:
«Ну, а как тут Полина поживает?»
«Да как все теперь, — и хлопочет, и отвечает Люба. — Что живем — что не живем. Таимся немцев, того пуще — полицаев, своих же, тутошних сволочей. Каждый день ждем какой-нибудь беды... Гусей, телочку, поросенка немцы у нас уже забрали. Коровку покуда оставили. А у Полинки с матерью — угнали. Мы им даем молочко. У многих позабирали скотину. Скоро и до людей доберутся, погонят в Германию, на них работать... А так-то — ничего, здоровая Полина и такая же красивая, как была. За тобой сильно скучает. К нам часто приходит. Как своя... Завтра увидишь ее. Я сбегаю, позову. Прямо с утра».
И мне уже не терпелось: хоть бы скорее наступило утро...
Уснул я на диво спокойно и спал крепко. Нигде и никогда так хорошо не спится, как в родном доме, на застланной мамиными руками постели... А мама. Люба потом сказала мне, так н не сомкнула глаз, берегла мой сон, прислушивалась всю ночь, не пойдет ли да не поедет кто по улице, не стукнет ли калитка, и до света растопила печку, чтобы сготовить нам к завтраку чего получше, повкуснее.
Утром, конечно, увиделись мы с Полинкой, и понял я, что за это время, как мы расстались тогда, на станции, она еще дороже мне стала. Да и я ей, видно было, тоже. И тут она призналась: «Мне без тебя, Тереша, проходу не стало в селе. Даже дома покоя нету. Загнобил нас с мамой, застращал главный тутошний полицай. По пятам за мной ходит, выйти никуда нельзя. В дом к нам лезет нахально. Заявится пьяный и прямо при маме требует, чтоб я шла с ним спать. Морда — чуть не лопнет. Глаза бешеные. Сидит, ухмыляется и запугивает: «Не захочешь со мной жить, будешь и дальше упираться — хату вашу спалю, а тебя в Германию вытурю. Там с вами не валандаются. Там у тебя дозволу спрашивать не будут. Целым взводом тебя... Поняла? От и выбирай, шо краще. Не знаю, что и делать. Сил уже-моих нету!»
Полина заплакала. А меня затрясло от злости, мороз пошел по вискам.
«Это кто же такой? Это что ж за скотина такая?»
«Да ты его знаешь. Кто ж его тут не знает? Наш колхозный конюх, Иван Кочерга».
«Ванька? Кулацкий сынок? Этот недобиток? Да я ему башку сверну, руки-ноги повыдергаю».
«Не надо, Тереша, с ним связываться! — схватила меня за руки, взмолилась Полина. — Ради бога не надо! Он же тут главный полицай. Немцы над всеми его поставили. Только ему и верят. Он быстро к ним нанялся, в тот же день, как они у нас появились. Говорят, пошел и сказал: «Я сын кулака. Батьку моего коммунисты засудили. Я против Советской власти. Хочу отомстить». Его сразу и взяли в полицаи. Теперь тут — его власть. Он, Тереша, такой зверюга, все может сделать, ни перед чем не остановится. Это же он у нас корову забрал. Теперь хочет дом спалить. Не надо с ним связываться».
«Ладно, Полинка, все это мы им припомним. Доберемся-до таких ванек. Никуда они от нашей кары не уйдут. Скоро своего дождутся, вот увидишь».
Она прижалась ко мне, перестала всхлипывать, и больше мы про это не говорили.
10 октября.
Как научил меня бывалый Стебельков, я не стал дожидаться, когда полицаи заприметят меня в селе и начнут интересоваться, где был да откуда явился. В тот же день, после обеда, сам пошел в полицию. Люба объяснила мне, что управа у них — в Людинове, а тут, в Вербежичах, ироде как отделение, и помещается оно в бывшей нашей школе. Мать сперва удерживала меня, всяко отговаривала, потом поняла, что бесполезно это, и смирилась: будь как будет. Повздыхала, перекрестила: «С богом». И я пошел. Понятно — без оружия. У меня были наган, финка, две гранаты. Но все это я спрятал дома, в сарае, и на свиданку с немецким холуем Ванькой Кочергой пошел просто так, с пустыми руками и карманами. Меня же могли обыскать. А так охота было прийти в полицейское кубло и прямо на месте влепить девять граммов свинца в продажный Ванькии лоб. Заслужил.
По дороге никто не обратил на меня внимания. Шел себе да и шел по своей, с детства родной улице к центру села. Видал двух немцев — пронеслись на мотоцикле с коляской. Около школы встретили меня два наших, деревенских мужика, два оборотня. И эти тоже, как Ванька Кочерга, в полицаев оборотились, немцам пошли служить. Один был в черной шинели, другой — в новеньком полушубке. Поди, содрал с кого-нибудь. У обоих на рукавах белые повязки. Винтовки на плече. Вид наглый, самодовольный — дальше некуда. Войско, думаю, мать вашу!.. А сам иду, никуда не сворачиваю.
Ко мне полицаи подошли с большим любопытством да с недобрыми ухмылочками.
«А, Сорокин? Вот те здрасьте! То-то глядим. — на-вроде как твоя физиономия замаячила. Не ждали тебя, землячок, совсем не ждали. Ты ж теперь должен быть у-у как далеко отсюда. Должен драпать без оглядки вместе со своей армией. А ты тут объявился. Чудно как-то... Ну, с возвращеньицем!»
«Так ты, служивый, красноармейский, откель взялся? С фронту, что ли, деру дал, сбежал от своих? Смерти, поди, испугался?.. Или вас того — растребушили где-нибудь в пух и прах, дак ты сдаваться пришел? В этом деле мы тебе можем пособить. По старой дружбе. Быстро доставим, куда надо».
Издевались, гады, выкобенивались, как хотели. А я глядел на них и невесело думал: «Им-то чего не хватало до войны? Кочерга — ладно, кулацкий сынок, за батьку решил мстить. А этим сволочам чего еще надо было от Советской власти? Один в колхозной конторе бухгалтером сидел, другой был кладовщиком. Семейные давно. Жили не хуже, а лучше многих в селе. Скота, птицы полный двор, в огороде, в саду всего вдосталь. И сами, и дети сыты были, одеты. Чего же они, собаки паршивые, моментом к немцу переметнулись, ему стали служить? Или поверили, что всему советскому теперь конец бесповоротный, что немец навсегда сюда пришел? Эх вы, шкуры продажные. Красуетесь тут, выкобениваетесь передо мной, а того не знаете, что по каждому из вас уже сук в лесу плачет. И доплачется, это уж точно».
На их трепотню я отвечать не стал. Пошли они...
«Где Иван? — спрашиваю так, будто мы с Кочергой закадычные дружки, а не просто знакомые. — У меня до него дело важное».
Смотрю — поджали они хвосты, ухмылки на мордах сразу слиняли. Переглянулись. Подумали, наверное: а вдруг я уже служу где-нибудь, куда повыше ихнего Кочерги?
«Где ж ему быть, Ивану? На месте, в кабинете».
Спрашивать ни о чем больше меня не стали. Проводили до школьного крыльца и тут остановились, а когда я направился к двери, о чем-то забормотали меж собой.
Где должен сидеть Кочерга, я догадался сразу. Конечно — в директорском кабинете. Отворил дверь. Он как увидел меня — чуть глаза на лоб не полезли.
«Сорокин? Ты глянь! Оцэ да. Оцэ так явление середь белого дня. Як с неба свалился. Ты так п напугать можешь».
Иван хитро прижмурился, надул красные щеки, пошевелил, как тот котяра, пегими усами, насупился, глянул на меня исподлобья. Сидел он за столом важно, независимо, прямо тебе гетман — не меньше. На левом рукаве у него тоже была белая повязка. Кочерга посопел, помолчал. Что-то, видно, соображал, обмозговывал.
«Проходи, седай. С таким гостем и поговорить интересно. Не каждый день до нас такие гости приходять».
Я сел на стул возле стола. Поглядел на Кочергу.
«Ну и шо ты пришел нам сказать? С какого боку тебя принесло назад в Вербежичи?» — спрашивает негромко и вкрадчиво, в самую душу лезет, как поп на исповеди.
«С того боку, Иван, где война идет — спокойно ему отвечаю. — А говорить ничего особенного не собирался. Просто зашел тебе показаться, чтоб знал — я в село вернулся, дома буду жить. И на тебя хотел посмотреть. Ты ж теперь тут большим начальником стал».
«Когда у нас появился?»
«Да только вчера под вечер».
«Ага, понятно».
Кочерга еще больше надулся, туда-сюда повел усами. Ну и хитрый, котяра!
«Цэ як понимать — «вернулся»? — делает новый заход, прикидывается, что ничего не понял. — Ты ж, Сорокин, должен служить у своем красном воинстве? Где ж оно, твое доблестное воинство? Драпае, только пятки сверкают? А ты его покинул в такой тяжелый момент? Хе-хе-хс... Утек? Ну и вояк они себе набрали. Дрань та рвань».
И тут, чтобы заткнуть этому немецкому пристебаю глотку, пришлось отвечать так, как приказывал командир наш, Стебельков. Язык не поворачивается, присох во рту, зубы еле-еле расцепил, смотрю на Кочергу в упор и вру, не моргнув: «Я ушел из армии. Ушел и скрылся подальше. Сразу сбежал, еще до фронта, когда нас только на учебу определили».
«Дезертировал?» — не может скрыть Кочерга своего злорадства передо мной.
«Называй, как хочешь».
«И не побоялся, шо расстреляют? Могли ж найти и расстрелять. Без суда и следствия. Дезертиров расстреливают на месте. Закон военного времени. Знаешь?»
«Знаю».
«И все ж таки не побоялся? Хх-е. Рисковый ты, оказывается, хлопец. Я раньше и не думал, шо ты такой... Где ж вас обучали?» — зачем-то решил уточнить Кочерга.
«По лесам. — Где ж еще?»
«Так-так. Понятно».
Из раскрытого портсигара на столе он взял длинную папиросу, прикурил от маленькой блестящей зажигалки. Сладкий, какой-то противно-приторный дым был у немецких папирос. Кочерга втягивал его в себя и жмурился, довольный. А я себе думал: «Что там тебе понятно, ублюдок ты безмозглый? Ряшку наел еще больше, чем до войны была, и пухнешь, как боров. Понятно ему. Ни черта тебе, мурло, не понятно. Когда поймешь, то уже поздно будет».
«Так-так. Оцэ уже интересно. Разбегаются, значит, из своего воинства новобранцы-голодранцы. Як те крысы из горящей конюшни. Да, понабирали они себе вояк, ничего не скажешь».
Кочерга вышел из-за стола. Руки важно сложил ка своем толстом заду. Заходил по просторному директорскому кабинету. Сапоги на нем были яловые, с подковами. Френч и галифе новые, из черного сукна. Точно — немецкие подарки верному холую. Ух, как хотелось дать ему кулаком по сытой ряшке. Со всего маху, под салазки, так, чтобы головой об стенку, чтоб аж зубы повылеталн. Да нельзя было, Миша, нельзя. Приходилось молчать и терпеть. Пока, до поры, до времени, конечно. Я знал, что мы с ними, вот с этими, скоро все равно рассчитаемся. Не сегодня — так завтра, не в этом году — так в следующем, но рассчитаемся на полную катушку.
«Ну и шо теперь собираешься делать в Вербежичах?
— уже строгим начальницким голосом спрашивает Кочерга. — Вольным казаком болтаться, чи как?»
Я ждал, что он спросит про это, и ответ приготовил загодя.
«Не подгоняй, Иван. Дай сперва оглядеться, — говорю. — Там видно будет».
«А до нас не хочешь на службу поступить? — опять Кочерга подбивает на откровенность, опять лезет в душу.
— Нам такие хлопцы сгодятся, которые от красных от кололися». — Сам не спускает с меня глаз.
«Спасибо, Иван, за доверие. Тут, я вижу, и без меня хлопцев хватает. Вон какие молодцы около крыльца стоят. Я пока подожду».
«Гляди не продожидайся. Потом жалеть будешь».
«У меня, — говорю, — дома дел по горло. С этой войной все в хозяйстве на развал пошло. Крыша течет, сарай весь покосился, забор тоже, дров на зиму нету. — Молчу. Потом добавляю нарочно: — И у Полинки моей дрова кончаются. Пособить надо, привезти».
«У кого, говоришь?» — настораживается Кочерга. И делает вид, что не расслышал.
«Да у Полины Федосеевой. Кто же им с Авдотьей Ивановной пособит?»
Кочергу всего так и передернуло.
«А тебе до них какое дело? Кто они тебе такие?»
«Так ты разве забыл, Иван? — Прикидываюсь простачком, будто и не знаю ничего про его выходки. — Она же невеста моя. Мы бы уже поженились давно, кабы не война».
«Если б да кабы... Мало чего было до войны. Теперь того не будет. Все ваше пошло прахом, Сорокин. Власть переменилась. Понял? — Кочерга сразу сделался красный и злой. — Теперь власть уже другая. И все при ей так будет, як нам надо. Нам! Заруби это себе на носу... Женишок, понимаешь ты, объявился. Видали мы вас. Таким женишкам знаешь куда прямая дорога? В концлагеря, от куда».
Думал Кочерга на испуг меня взять. Не на того напал. .
«Что ж ты так, Ваня? — вежливо говорю ему. — Из- за чего завелся? То на службу к себе приглашал и вдруг про концлагерь заговорил. Нехорошо так, не по-свойски. Все ж-таки в одном селе выросли, в одну школу ходили».
«Ладно проповедывать. Не учи ученого. — Кочерга опять сел за стол, показывая, что до меня ему больше нету дела. — Чеши отсюдова, пока не взяли. С тобой мы еще разберемся, какой ты дезертир. А пока давай катись».
Мне того и надо было — поскорей отсюда смотаться, чтоб на морду его самодовольную не глядеть и не торчать тут больше ни минуты. Я же знал, что мои все уже извелись, меня дожидаючи: отпустят из полиции или нет?
Те двое, возле крыльца, насторожились, как цепные кобели, когда я выходил. Долго глядели мне вслед и все о чем-то переговаривались...
Так повидался я с главным полицаем нашего села. Отметился, как говорится, у него, дыму напустил в глаза. Еще мне надо было обязательно навестить мать Сергея Стебелькова, Анну Максимовну, она жила тут же, в Вербежичах. Сергей просил передать ей всего два слова, успокоить: он жив-здоров, занят делом, а где находится и что делает — про это ничего не говорить. Но сам я к Анне Максимовне решил не ходить, чтоб не упали на нее никакие подозрения. Кочерга наверняка уже дал задание своим овчаркам следить за мной. Под вечер я послал к Серегипой матери Любу, и она все точно передала, как я ей сказал.
Неделя прошла. Другая миновала. Снега упали у нас большие. Морозы поприжали. Настоящая зима наступила. Туго стало фрицам. И гнулись они, и корчились от стужи. Поджали хвосты, прятались по теплым домам. На мороз вылезали без охоты. В нашем селе, правда их было совсем мало. В глуши они старались не задерживаться, перли дальше за фронтом и все больше — по железной дороге и повдоль нее. В Вербежичах появлялись наскоками. Приезжали грабить селян, забирать скот — крупный, мелкий, что попадало, сколько могли увезти. И сами любили пожрать, и Германия требовала, сытно хотела жить на чужом горбу, на чужих слезах и крови.
Каждый день я ждал, не вызовут ли в полицию, не начнет ли копать под меня Кочерга, не придут ли за мной немцы или полицаи. Не приходили, не трогали. Кочерга вроде и позабыл про меня. Перестал и Полину донимать, преследовать. Но мы с нею в это не верили. И то, и другое казалось подозрительным. Наверно, выжидал, хитрый волк. Наверно, что-то придумал. Нет, я знал, что просто так, добром он от нас не отступится. Все одно приготовит какую-нибудь месть. Иначе не быть ему Кочергой.
Но тут, Миша, такое закрутило-замело, такие разом нагрянули события, каких и ждать не могли. Опять убедились мы, что такое война и чего только не бывает •на войне. Да про это — в другой раз. А то расписался, остановиться не могу, писатель тоже. На сегодня хватит.
12 октября, утром.
Мужики в палате уже приметили мою тетрадку. Интересуются:
«И что ты там вес пишешь, Терентий? То через день, то каждый день».
«Жалобу какую или че?»
«Зачем жалобу? На кого жаловаться? На собственную жизнь?.. В больнице все нормально, по заведенному порядку. Лечат, как могут, кормят по режиму, постели меняют, и даже телевизор глядеть разрешают. Чего еще надо?.. Завещание пишу, — говорю любопытным мужикам. — Каждый человек должен оставить после себя завещание, верней сказать — воспоминания. Про свою жизнь, про все, что видел, испытал, понял в жизни. Никто же так хорошо не знает твою жизнь, как ты сам. Вот и расскажи про нее всю правду. Может, кому-то и пригодится.
«Ну, не скажи. Ежли каждый свои завещания да воспоминания понапишет, их только и читать придется с утра до вечера. Скука будет».
«А я все-таки решил написать».
«Да что-то шибко долго пишешь. Или столько добра накопил, что не знаешь, как его разделить, сколь кому оставить?»
«Как же было не накопить? — говорю. — Тем только всю жизнь и занимался».
«А нам ничего не перепадет? На проводины».
Шутят мужики...
И вернемся, Миша, в наши края, в родные Вербежичи декабря сорок первого года. Тот снежный суровый декабрь преподнес нам большую неожиданность. За три дня до Нового года, рано поутру, мы вдруг услыхали вдали от села, со стороны Людинова, сильную стрельбу. Били из винтовок и пулеметов. Изредка раздавались несильные взрывы. Похоже — рвались гранаты. Ошибиться было нельзя: шел бой. Он приближался к Вер-бежичам.
По нашей улице прокатилась длинная вереница груженых немецких повозок. Потом пронеслось несколько машин с солдатами. По всему было видно — они от кого-то удирают, спешат спасти свою шкуру. Мы подумали, что это партизаны всыпали им как следует, подпалили задницы. Стрельба со стороны города стала реже и постепенно совсем затихла. А немного погодя в село вошли... кто бы ты думал? Нет, не партизаны. Наши бойцы, красноармейцы! Да не десять и не двадцать. Не взвод появился и не рота, а сотни вооруженных бойцов нашей регулярной армии с конным обозом, с небольшими орудиями. Ну кто же этого ожидал? Кто мог такое предположить? Вот это было событие! Вот это была встреча! Все село, от мала до велика, высыпало на улицу. Обнимали, целовали красноармейцев, плакали и смеялись от радости. Наперебой зазывали бойцов к себе домой, расспрашивали, кто они и откуда, как сюда прорвались и много ли их, насовсем они нас освободили, задержатся в селе или дальше пойдут — пробиваться через линию фронта к своим.
И узнали мы вот что. Оказывается, это вышел из лесов и ударил по немцам с тыла резерв одной нашей армии. Он был отрезан в начале октября и теперь с боями «ходил из окружения. Резерв был сильный. Наши одним ударом вышибли немцев.из Людинова, заняли город и взялись освобождать окрестные села. Среди немцев поднялась паника, и они удирали без оглядки туда, где были их гарнизоны или формирования войск. Отступая, они побросали большие запасы продовольствия и боеприпасов.
Красноармейцы сразу же спросили:
«Полиция у вас есть?»
«Где живут полицаи? Показывайте».
Двоих успели взять. Как раз тех, что встретили меня около школы,— бывшего колхозного бухгалтера и кладовщика. Приговор им вынесли на месте: расстрел. Эти свое быстро получили. А Кочерга вовремя смотался, сумел-таки скрыться и следы замел.
В этот день в Вербежичи вошли и расквартировались почти три тысячи красноармейцев. Они привезли много всякого немецкого продовольствия и раздавали его нашим, деревенским, особенно тем, у кого большие семьи, много детишек. Раздавали консервы, сахар, галеты, сыр, кофе в брикетах и даже шоколад. Наши тоже не скупились и подавали на стол все, что еще было в хозяйстве. Резали кур, гусей и поросят, в больших котлах варили картошку и кашу, доставали из погребов соленые огурцы и капусту, пекли свежий хлеб. А воинским лошадям уделяли фуража, сколько могли. Ради наших бойцов старались все. Старались и наша мать с Любой. У нас в доме остановились трое. Командир взвода, старшина и солдат. Полина с матерью разместили у себя четверых. Да в каждом дворе, в каждом доме наших бойцов приняли с дорогой душой, как родных. Их жалели. О них заботились. Им сочувствовали. И думали, и говорили только о том: как же они выстоят, если кругом немцы? Долго ли смогут продержаться? И сумеют ли пробить окружение, выйти к своим? Фронт ведь уже далеко. Сколько их, парнишек, сложат голов, покуда пробьются?
Немцы, видно, на какое-то время опешили. Никак не ожидали, что в тылу у них вдруг объявятся такие силы Красной Армии. Подумали — может, прорыв какой, и поскорее убрались из нашего района. Повышибали их отсюда всех до одного, подчистую подмели и полицию. И на какое-то время у нас опять установилась наша, Советская власть. Над сельсоветом был поднят красный флаг. Над школой тоже. По мы понимали, что немцы долго этого не потерпят, подтянут силы и ударят по нашим со всей жестокостью, постараются ни одного нашего солдата не выпустить из кольца. Да тишины, покоя и не было ни минуты. В разных концах района вспыхивали бои, возникали перестрелки — там, наверно, где наши натыкались на немцев или немцы на наших. Красноармейские командиры ждали удара и готовились к нему.
После обеда, в сончас.
А что было делать мне? Связываться со Стебельковым и ждать его указаний? Для этого не было времени.
Я пошел в штаб к нашим, сказал, что оставлен в немецком тылу для подпольно-диверсионной работы, а теперь хочу быть вместе с красноармейцами. «Хорошо, — сказали мне. — Скоро получишь задание». Под вечер я его получил. Мне и четверым сопровождающим было приказано пробраться в село Крынки. Ночью, осторожно, чтобы не попасть в какую-нибудь засаду, привести оттуда роту автоматчиков и занять с нею оборону за окраиной нашего села, перекрыть дорогу из Людинова на Вербежп-чи. Мне выдали винтовку, подсумок с патронами, две гранаты, сухой паек не забыли. И мы пошли.
Приказ, конечно, выполнили. В ночь с 28 на 29 декабря я привел роту автоматчиков из Крынок, и мы замяли позицию за Вербежичами, перекрыли подходы к селу. И оказалось — вовремя это сделали. Только начало светать — послышался гул моторов, и откуда-то принесло немцев. На дороге показались пять машин под брезентом п несколько мотоциклов. Двигались они осторожно. Где-то все-таки пролезли в обход Людинова, остались неза-меченными. «Давайте, давайте, — думал я про себя. — Дорогу выбрали правильно, встреча вам давно готова». Мы подпустили их совсем близко и открыли огонь. Закидали грузовики гранатами. Немцы не успевали выскакивать из кузовов и отстреливаться. А те, что выскочили, так и остались лежать на дороге и вдоль нее. Ни один не ушел. Машины горели... Бой был коротким. Когда из села подошла рота нам на подмогу, делать ей было уже нечего. Свежая рота сменила нашу на позиции, а нас отправили в село отдыхать, отсыпаться после ночного марша и дежурства.
Я, конечно, первым делом забежал не домой, а к Полинке. Рассказал, где был и как мы дали жару немцам. Сейчас еще горят на дороге машины. Она заплакала.
«А если бы тебя убило?.. Я так и знала, что ты там. Вот чувствовала и все. Как стрельба поднялась, мы с мамой сразу проснулись. Лежим, прислушиваемся, а я и говорю: «Наверно, и Тереша там. Сердцем чую». Хотела уже бежать к вашим, узнать, где ты есть. Мама не пустила. «Куда ты побежишь, глупая? — говорит. — А вдруг по селу начнут стрелять?» Я и осталась, а сама себе места не нахожу».
Она положила голову мне па грудь.
«А если бы тебя убило?»
«Меня? — говорю. — Никогда. Ты же меня тут ждешь. И мы еще свадьбу с тобой не сыграли. Нет, мне положено возвращаться живым».
Она повеселела, заулыбалась. А когда я уходил, шепнула мне на ухо в сенцах: -
«Вечером приходи. Да не забудь. Я буду ждать». И сама поцеловала меня...
Вечером я, конечно, пошел к ней. Как же я мог не пойти к своей Полинке? Любовь и на войне остается любовью. Дома Полинка была одна. У нее топилась печь, а на столе стоял горячий самовар. Она стала угощать меня чаем с блинами, а к блинам подала блюдечко меду. Такая ласковая была, внимательная. И мы долго сидели вдвоем, не хотели разлучаться, я про себя, наверно, и она тоже, думали, что каждое такое наше свидание может стать последним. Не сегодня-завтра нагрянут немцы. Что тогда будет с нашим селом, со всеми нами?.. Я спросил, где же мать, почему она не приходит. А солдаты, постояльцы, куда все разом подевались?
«А мама и не придет, — с улыбкой ответила Полина. — Она у соседки будет ночевать. И солдаты не придут. Их послали куда-то по заданию. Никто к нам, Тереша, сегодня не придет, никто нас не разлучит. Будем одни, только ты и я».
Она распустила косу и стала большим гребнем расчесывать красивые русые волосы, длинные, с мягким отливом. Открыто и ласково, и чуть грустно смотрели на меня ее темные глаза. Она подошла, села рядом со мной, обхватила, крепко сжала мою руку над локтем, а щекой прижалась к моему плечу и тихо сказала:
«Сегодня утром, Тереша, я так испугалась, любимый мой, так за тебя испугалась. Тебя же и правда могли убить в этом бою. А что еще будет завтра? Что будет, если немцы придут, если наши отступят насовсем, надолго? Даже подумать страшно... Вдруг нам с тобой придется разлучиться? Да скорей всего так оно и будет. Я тут останусь, на растерзание Кочерге, а ты уйдешь вместе с красноармейцами. Теперь, после этого всего, тебе оставаться в Вербежпчах никак нельзя. Сразу немцам выдадут. И раньше всех — Кочерга. Ой, горе наше, горе! Откуда ж она взялась на пас, эта проклятая война?.. Не хочу, Тереша, чтоб мы с тобой расстались просто так... ну... как чужие. И не муж с женой, и не брат с сестрой. Неизвестно, что с нами будет. Может, потом и не свидимся больше никогда. — Она помолчала. Горестно, прерывисто вздохнула. Стерла со щеки слезу и еще крепче прижалась ко мне. — Ну вот... никому я тебя, Тереша, сегодня не отдам, никуда не отпущу. Будешь ты моим всю ноченьку. До самого утра, до самой зорьки»...
Для меня это была самая счастливая и самая короткая в жизни ночь. Тогда я, конечно, этого еще не знал, не понимал. Дошло это до меня гораздо позже, через годы. А больше всего, острен всего понимаю теперь, когда жизнь уже прошла и ничего мне в конце дороги не оставила.
Ночь та была такая тихая, спокойная, все падал и падал за окнами снег, и ни выстрела нигде, ни гула, ни грохота. Как будто не было, нету и никогда не будет на свете никакой войны.
14 октября.
Вспоминаю ту зиму, а у нас тоже повеяло зимой. С утра пошел мелкий снежок и все подсыпает понемногу, хоть закроет серую унылую степь за поселком и замусоренный больничный двор. Это для меня самое тоскливое время — поздняя осень, глухая, бесцветная и беззвучная. Она всегда напоминает о чем-то ушедшем, безвозвратном, гнетет какой-то непонятной, необъяснимой тяжестью, давит на сердце вот этой своей серостью — тоска и все, никак себя не могу переломить, ну прямо жить тошно. А снежок упадет, высветлит все кругом — и сразу на душе веселей, руки просят работы, хочется куда-то ехать, идти, что-то полезное делать. Запрячь коня в сани да собраться в лес по дрова. Или пройтись по опушкам да по ложбинкам с ружьецом, зайчишек погонять. Забрести на чай, на сердечный разговор к хорошему другу. А то просто махнуть па весь день но свежей пороше куда глаза глядят...
И тогда, в том декабре, нам хотелось позабыть хотя бы ненадолго, что война продолжается, что кругом нас немцы, и они в любой час могут вернуться и ничего не оставить от нашего села, никого в живых тут не оставить. .Мы готовились, как раньше, в мирное время бывало, встречать Новый год. И у нас дома, и у Полинки пекли пироги с разной начинкой, делали винегрет, варили холодец и фруктовый кисель. Из лесу принесли две сосенки и нам, и Полине. Нарядили их. В новогодний вечер все собрались у нас — и мы, п наши красноармейцы, и Анна Максимовна, Сережина мать. Даже внно появилось на столе. Все из тех же немецких запасов, трофейное И встретили мы Новый, сорок второй год еще при нашей власти, как полагается — с тостами за здоровье, общее счастье, за нашу победу над фашистами. И, конечно, с песнями. У нашего молоденького комвзвода, фамилия у него была украинская — не то Волошенко, не то Романенко, забыл уже, оказался такой высокий, звонкий и чистый голос, прямо как у настоящего артиста. Ох, и пел он, сукин сын! Ох, и выводил своим голосом! Ну прямо второй Козловский. Вблизи, да еще и в своем доме, я такого голоса еще никогда не слыхал. У меня аж сердце зашлось, па глаза слезы навернулись. И Люба с Полннкой, гляжу, обнялись, горюют вместе с песней, а матери наши такие задумчивые стали, печальные. Про что они думали в ту минуту, в те новогодние тихие часы — наши матери? Не знаю. По сей день так и не ведаю, могу только догадываться. Все это осталось у них в сердце и навсегда ушло вместе с ними... А в общем, даже в той обстановке, в немецком окружении, Новому году мы все равно радовались. Мы так верили, что он повернет воину в другую сторону и начнет приближать нашу победу.
Это были, Миша, можно сказать, наши последние спокойные часы в ту зиму, последняя возможность побыть вместе, посидеть за одним столом да еще и песни попеть, а нам с Полннкой наглядеться друг па друга. И я понимал, и она тоже: может, больше и не доведется, а если и доведется нам вот так опять свидеться, то, наверно, очень не скоро...
Началось... Немцы со всех сторон подтянули к нашему району усиленные танками, артиллерией войска и ударили по красноармейским частям. И в Людинове, и вокруг него, но окрестным селам, начались почти беспрерывные, жестокие бои. Били немцы по нашим и с возд\ха, били остервенело. Самолеты все время висели в небе. И все бомбили, бомбили. Был налет и на Вербжичи.. Разбило школу, амбары с зерном, конюшню. Сгорело несколько домов. Многих ранило. Убитых, слава богу, не было.
Штаб вербежицкий получил донесение о том, что Людиново опять захвачено немцами, а наши несут большие потери и с боями рвутся на восток. Сразу же пришел приказ поднимать бойцов, идти в направлении Ельни на соединение еще с одной частью, чтобы потом одним кулаком пробиваться к фронту. А мне мой командир Стебельков через нашего человека успел передать, чтобы я не вздумал уйти вместе с красноармейцами, приказ никто не отменял, нам надо оставаться в немецком тылу. Во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах.
Шестого января солдаты стали уходить. Взвод за взводом. Рота за ротой. Направление взяли в сторону села Кировского, растянулись по дороге. От Вербсжич уелели отойти всего километра два. Только поднялись в гору, к деревне Савино, как налетела немецкая авиация. Самолеты появились неожиданно. И точно над деревней, как будто кто-то нарочно навел их на цель. Они стали бомбить колонну и расстреливать из пулеметов, и я сразу вспомнил наш эшелон под Навлей. Самолеты кружили и кружили над деревней Савино и ее окрестностями, делали один заход за другим и все сбрасывали бомбы, все строчили и строчили из крупнокалиберных пулеметов. Так же, как там, под Навлей, много наших погибло у деревин Савино и многие были ранены... А через час или полтора после налета где-то вдали, ужо под Кировским или даже за ним, завязался бой. Долгий он пыл. наверно, очень тяжелый для наших. До самой темноты мы слышали в той стороне стрельбу и взрывы. Кто там уцелел? Кто пробился дальше пли ушел в глухие леса? Про это было не узнать. Конечно, всем нам хотелось, чтобы наши прорвались к линии фронта, перешли ее и соединились с Красной Армией. Но поверить в это было трудно. Очень далеко был уже от нас фронт, и все дороги, все подходы к нему были, конечно, перекрыты немецкими войсками. Я думал, что тем из наших солдат и командиров, кто останется в живых, скорее всего придется укрыться в брянских .да смоленских лесах, уйти в партизаны...
Ну. а куда теперь было податься мне? Вопрос не шуточный, вопрос, можно сказать, жизни и смерти. Я же понимал: как только вернутся немцы и в селе опять объявится Кочерга — мне крышка, живьем они меня из своих лап уже не выпустят, повесят на первой же сосне. Значит, надо было куда-то уйти, скрыться и оповестить об этом Стебелькова.
Под вечер мы сидели у нас дома. Полина тоже была тут, и мать моя так рассудила:
«Уходить надо тебе, Тереша, без промедления уходить. Куда-нибудь подальше отсюда. В другое село или опять в Людиново, к тому твоему старику. Все тут знают, видели, что ты был с красноармейцами эти дни. Заберут тебя немцы. Убить могут. Уходи, Тереша. А мы уж как-нибудь...».
«Я тоже с тобой пойду, — вдруг решила Полина. — Не брошу тебя. И не останусь тут одна. Уйдем вдвоем. Если погибать нам, то вместе».
«Куда же ты пойдешь? — стал я ее отговаривать. — А мать на кого бросишь? Да и посуди: и одному не так просто скрыться. А вдвоем куда же мы? Вдвоем будет намного труднее. Может, придется в лес податься, в болота, в землянки».
«И я с тобой», — твердила она.
Ни до чего мы так и не договорились.
Немцы могли нагрянуть уже в эту ночь или рано утром, и дома я не остался, ушел к Полине. Здесь бы меня не сразу кинулись искать, и в случае чего отсюда до леса — рукой подать. Но командир мой, Стебельков, понимал обстановку ничуть не хуже и помнил про меня, про всех своих подчиненных, оставленных в тылу под его началом. Уже был поздний час, когда прибежала Люба. Она передала важную весть. К нам домой только что приходила Анна Максимовна, у нее был связной от Сергея. Мне приказано завтра быть в селе Буда, там собирается наша группа, явка — в третьей избе от края, три раза постучать в окно. Полина услыхала — сразу в слезы. А что было делать? Мы же заранее знали, что скоро нам предстоит разлука. Вот и наступил этот час.
«Как же мы останемся без тебя, Тереша? — приговаривала Полина. — Кочерга всех нас изведет, на тот свет отправит. За все отомстит. У него же никакой жалости. Злоба одна».
Мы с Любой, как могли, успокаивали ее. Напоследок я наведался домой. Взял приготовленную мамой котомку с харчами на первые дни да с моим бельем, попрощался — и опять к Полине. У нее пробыл еще часок. И стал собираться. Надел валенки — теплые, подсушенные на печи, шапку и полушубок. Подпоясался широким ремнем, под него втолкал рукавицы. Вооружение свое разложил как поудобней, сподручней. Финку — в правый валенок, наган — в глубокий карман полушубка, гранаты — за пазуху. На прощанье обнял, поцеловал Полинку, поклонился ее матери, а она благословила меня. Закинул на плечо котомку. Пообещал скоро дать о себе весточку, а может, как-нибудь и наведаться тайком, среди ночи. И вышел из дома в темную улицу.
Ночь была глухая, безлунная и не очень морозная. Как раз то, что мне надо. Около калитки я задержался. Постоял у забора. Послушал. Огляделся немного, покуда глаза привыкли к темноте. Было тихо... И я пошел.
16 октября.
Должен тебе признаться, Миша. Чем дальше пишу я все это, чем больше память ворошу, тем труднее писать и подробно вспоминать войну. Я как будто заново переживаю свою жизнь. А это, сынок, очень тяжело — второй раз переживать собственную жизнь. Особенно, если была она несладкой и невеселой, заставила досыта хлебнуть мурцовки, била тебя, гнула и топтала, душу твою кромсала, человека из тебя вытравливала. Но про это, Миша, и придется говорить. К этому я как раз и подступаю.
Окрест Вербежич я знал все проселки, все прямые и обходные, короткие и длинные пути-дорожки, скрытые тропы, хаживал по ним днем и ночью, в любую пору года. В Буду я пришел утром. Оно было хмурое, недоброе. Не доходя околицы, постоял в березнике, отдышался. Потом задворками приблизился к третьей от края избе. Пригляделся, нет ли на улице чего подозрительного, не стоят ли где поблизости немецкие машины или подводы, не ходит ли патруль. В селе было тихо, безлюдно. Будто вымерло оно или затаилось в ожидании какой-то беды. Огородом, повдоль забора, подошел к избе. Три чаза, как было условлено, постучал в окно. Подождал немного — постучал еще. При слабом свете внутри избы мне помахала над оконной занавеской рука — чтобы шел к двери. Отворил мне бородатый старик в белой сорочке. Хрипловато окликнул:
«Свой?»
«Свой».
«Проходи, сыпок. Тут тоже все свои».
В избе, прямо у порога, меня встретил сам Сергей Стебельков. Не ожидал я его так сразу увидеть и очень ему обрадовался. Он тоже рад был встрече. Обнял меня.
«Живой?»
«Живой, — говорю. — Помирать не собирался. Рано еще».
«Это наш Терентий, — показал Стебельков на меня старику. — А это — Евсеич, хозяин дома. Запомните друг друга. Встречаться придется еще не раз».
Евсеич протянул мне руку, дружелюбно улыбнулся. Широкогрудый, коренастый. Большая голова, брови с проседью, и борода наполовину седая.
Просторная и чисто прибранная изба была разделена легкой дощатой перегородкой. Переднюю половину освещала небольшая керосинка. Дверь на другую половину была задернута шторой. Там кто-то тихо разговаривал — двое или трое.
Стебельков снял с меня котомку, указал в угол, на вешалку.
«Раздевайся. Да скорее рассказывай, что там оно да как в наших Вербежичах... Красноармейцы ушли?» «Ушли. В сторону Ельни». «А немцы появились?» «Пока нету».
«И тут, в Буде, тоже нету. Боятся сунуться, чтобы опять не получить по зубам. Нагнали наши на них страху. Вот мы и решили воспользоваться этим, собраться тут, пока немцев нету... Ну, как там наши все? Как мать? Рассказывай».
Для долгих разговоров у нас времени не было. Да все же обсказал я Сергею вкратце про его мать и про своих, про то, как пришла в Вербежичи красноармейская часть, как привел я из села Крынки роту автоматчиков, и мы пожгли немецкие машины, перебили солдат, и как Новый год встречали. Не забыл, конечно, и про Кочергу. Стебельков аж побледнел: «Ах ты, гад! Ах ты, шваль немецкая! Ну, доберемся до тебя, продажная шкура. До всех вас доберемся!»
В избе Евсеича в тот день собралась вся наша десятка, полным составом. Трое пришли со Стебельковым из Людинова. Двое были здешние и трое — из Колчина, оно не так далеко от Буды. Стебельков рассказал, что прошлой ночью тут же, у Евсеича. заседал подпольный штаб. Он наметил план действий. На ближайшее время, до конца зимы. Штабу мы и должны подчиняться во всем. Самим никуда не соваться, себя не обнаруживать. Командир нашего отряда тут, неподалеку. Кличка его — Лесовик. Что прикажет он, то и делать будем. Стебельков объяснил, где кому из нас находиться с сегодняшнего дня, как с ним держать связь и какие сведения собирать про немцев.
Нам повезло. Пока сидели, толковали, повалил енвг. Такой густой да лохматый, что села не стало видно, все поплыло, как в молоке. Ребята смогли по одному, по двое незаметно, по-за огородами, а потом лесом уйти из Буды. Мы трое уходили последними — Стебельков, я и колчинский парень Саня, чуть помладше меня. Так же, как многих из нашего района, Саню не успели призвать в армию. В военкомат вызвали, а в тыл отправить не успели и определили в нашу подпольную группу. Мы должны были проверить один из трех наших складов оружия. Он находился, как сказал Стебельков, километрах в пяти отсюда, в лесу. Я готов был идти хоть куда, жить хоть где, в деревне, в лесу — все равно, выполнять хоть какое задание. В Вербежичи мне теперь ходу не было, это точно. Сейчас вернется в село Кочерга, наберет себе новых бульдогов и станет следить за нашим домом днем и ночью, караулить меня неусыпно. Да я-то ладно, я в безопасности, но там же остались мать, Люба, Миша, Полина. Они совсем беззащитные. С ними бы чего не сделал Кочерга, на них бы не натравил немцев. Тогда — беда... Только про это я и думал с той самой минуты, как расстался с Полиной... Мы шли по лесу, а снег все падал, падал, закрывал наши следы, прятал нас от вражеского глаза.
Подивился я, как Сергей нашел это место. Кругом лес, вроде бы везде одинаковый, нету никаких особых примет, а он нашел сразу, без промаха вывел нас прямо к землянке. Устроена она была умело и хитро. На склоне узкой ложбины, среди кустов и упавших деревьев. Крыша вровень с землей, входа и вовсе не видно. Рядом пройдешь — и ничего не заметишь. Пучком веток размели снег, отворили низенькую дверь землянки, спустились з нее по ступенькам. Тут были нары из отесанных жердей, пятерым спать можно, и железная печурка с трубой. .Мы кинули свои котомки на нары и пошли проверять оружие. Тайник Стебельков нашел метров за сто от землянки. Это была хорошо укрытая и замаскированная яма в чаще. В ней, под брезентом, оказались один станковый пулемет и два ручных «дегтяря», десятка полтора винтовок, ящики с патронами, взрывчаткой и гранатами. Стебельков сразу успокоился и даже повеселел, а всю дорогу был хмурый и молчаливый, беспокоился, наверно, за оружие.
«Все на месте. Все в порядке, ребята! — сказал он и потер ладони. — Теперь это хозяйство нам здорово пригодится. Теперь оно в дело пойдет. И еще как!»
У Сани глаза так и загорелись. Раньше пулеметы он видел только в кино. Мы опять надежно закрыли яму. Вернулись в землянку. Выдвинули трубу наружу. Разожгли огонь в печурке. Быстро потеплело, и мы разделись. Натопили снеговой воды в двух котелках. В одном сварили картошку, в другом чай. Поели.
«Тут и заночуем, — решил Стебельков. — А завтра пойдем на разведку. К железной дороге. Надо проверить, где и как немцы ее охраняют. Не мешает поглядеть, что везут и часто ли идут эшелоны».
«А потом куда?» — спросил я.
«Если в селах будет спокойно, ты вернешься к Евсеичу, а мы с Саней — в Колчино».
У меня на душе стало еще тревожней. Все больше беспокоился за своих, за Полину. Как они там? Что теперь делается в наших Вербежичах? Получалось — бросил я родных на произвол судьбы, сами, мол, себя оберегайте от немцев и полицаев, бросил и ушел в безопасное местечко. И я спросил Сергея:
«А может, мне все-таки воротиться в Вербежичи? После разведки... Вернется Кочерга, проверит — меня нету, след простыл. И тогда наши пропали. Всех заберет, всех будет пытать. Жалости у этого гада нету»...
«Допустим — вернешься. И что скажешь полиции? Для немцев ты — что был, что не был. Немцы сегодня одни в селе, завтра — другие. А полицаи-то — местные. Что им скажешь, когда начнут допытываться, где был да что делал?»
«Скажу — с красными не был, скрылся, когда они появились в селе. Теперь вот воротился... Отбрешусь как-нибудь».
Сергей задумался. Потом несогласно покачал головой.
«На дурачка рассказ. Не поверят, не отбрешешься. Они тоже не простачки, Терентий. Никто теперь не поверит, что ты — дезертир. Наверняка тебя видели с красноармейцами. Да и дома они у тебя стояли, ты же сам говорил... Нет, не поверят. Повяжут и сразу отправят в гестапо. А там разговор короткий. Или к стенке, или в концлагерь».
Я понимал, что Стебельков рассуждает правильно и хочет мне только добра, заботится обо мне боевой друг и командир, но успокоиться не мог: «Ну тогда разреши сбегать хотя бы туда и обратно. К вечеру пойду, а завтра сюда ворочусь. Только разузнаю, что там как, да и ворочусь моментом».
Сергей и на это не согласился.
«Чего добьешься таким набегом, кому поможешь? Да и не время. Как раз можешь нарваться на засаду, если немцы опять пришли, и Кочерга вернулся... Не надо, Терентий, рисковать зря. Не имеем права. Мы еще только начинаем бить немцев. У нас впереди еще много работы. Себя тоже поберечь надо. Все мы тут на счету. Нас пока немного. Так что рисковать не надо. Думаешь, я бы не хотел пойти в Вербежичи? У меня же там не только мать. У меня, Тереша, в селе тоже невеста осталась. Тасю Клейманову знаешь? Ну вот... А ты рвешься. Нам если идти туда, так только вдвоем. И сходим обязательно. Немного погодя, когда обстановка прояснится. Потерпи. Вместе давай потерпим».
Саня молча слушал наш разговор, не вмешивался. А тут не согласился: «Сходить в Вербежичи, конечно, надо. И того полицая — Кочергу... потихоньку, без шума убрать. И побыстрее, пока не поздно. Пока он там не начал с людьми расправляться. Если чего — и меня берите, я тоже пойду».
«.Может, Саня, ты и прав. Подумать надо», — тихо, раздумчиво сказал Стебельков.
Покоя мне до утра так и не было. В ту ночь я почти не спал. Все лежал на неровных ребристых нарах, будто на стиральной доске, и слушал, как шумит над землянкой зимний лес... Обрадовался, когда начало светать.
17 октября.
Свое задание мы выполнили. Пробрались к железной дороге, прошли вдоль нее несколько километров. Смотрели, где на ней какая охрана, где самые удобные, скрытые подходы из лесу. Эшелоны гремели часто. С танками, пушками, цистернами горючего, с войсками. Они тянулись на восток, все на восток. И мы переживали за ребят наших — тех, что на фронте. Да, нелегко им будет остановить всю эту армаду, перемолоть столько железа и такую тьму немецкой солдатни, вооруженной до зубов... К вечеру мы пришли на окраину Колчина. Саня сбегал в село, к себе домой, разузнать, есть ли там немцы и какая вообще обстановка. Он быстро вернулся и сказал, что днем тут было несколько машин с немцами н полицаями, шарили по избам, стайкам, сенникам, допытывались, не прячет ли кто раненых, больных красноармейцев. Машины укатили дальше, на Буду, в селе спокойно, можно всем троим остаться тут ночевать. Я, конечно, встревожился: «Значит, и у нас немцы все обшаривают, мордуют людей. Конечно — и Кочерга с ними. Поди, выслуживается, гад, указывает, кто красных привечал, кого надо к стенке в первую очередь. Завтра же схожу в Вербежичи, разузнаю, как там наши». Но только я подумал про это, как Саня сообщил, что на завтра Лесовик уже передал нам через связного новое задание: в нескольких местах заминировать дорогу из Людинова, установить за ней наблюдение с колокольни колчинской церкви, глядеть и запоминать, сколько немцев и с какой техникой направляются в глубь этого района. Приказ есть приказ, не выполнить его нельзя. Все забудь, умри — но выполни.
Одним словом, только через три дня, на четвертый смог я, конечно, с разрешения Стебелькова, собраться в свои Вербежичи. Я хотел пойти один, чтобы не рисковать, не подвергать опасности еще кого-то, но Стебельков настоял: «Пойдете вдвоем с Саней. Это я не могу с тобой пойти без разрешения старшего командира. А тебя одного не отпускаю. Дело это — совсем не личное, как ты думаешь. Это еще и разведка... Так что, дуйте вдвоем. Завтра жду вас обратно».
Он остался в Колчине.
Нигде не выходя на дорогу, стороной от нее, мы с Саней пришли в Вербежичи. Вечер уже был, совсем стемнело. Мы так и рассчитали, чтобы потемну прийти в село, никому не попасться на глаза. Неторопливо, задами повел я Саню к своему дому. Договорились: он подежурит за сараем, а я войду. Если там все в порядке, он побудет у наших, а я проведаю Полину.
Иду я, Миша, к нашему подворью и сперва ничего не могу понять. На месте дома и сарая провал какой-то. Понимаешь? Пустота. Напрягаю, таращу глаза, да все зря. Нету, ну нету нашего дома! И чую — наносит оттуда, с того места, горьким, едучим духом недавнего пожарища. Да что же это? Не может быть!... Останавливаюсь, как зашибленный, шагу больше ступить не могу. А Саня глядит на меня в темноте и не может взять в толк, чего это я оторопел, что такое со мной. Потом, видно, тоже начинает помалу соображать. Шепчет испуганно: «Что, Тереха? Ваш дом, да?.. Сгорел?»
«Наш, — говорю.—Наш, Саня. Да только не сам он сгорел. Спалили, гады! Кочерга с немцами спалил. Его работа. Больше некому».
«Надо было раньше идти, — корит кого-то Саня. — Я же говорил. Надо было сразу кончить этого Кочергу, эту скотину».
Подходим поближе... В половину двора — большое черное пятно. Это огонь растопил снег и оголил черноту. На ней можно разглядеть недогоревшпе бревна. Над ними чуть выделяется, светлеет на темном небе голая печь с полуобваленной трубой. Только это и осталось от дома. Нету его. Спалили немцы наш дом... Когда спалили? Вчера? Два дня назад? Гарь была свежая, так и била в нос, проникала в самую душу... У меня захолонуло все внутри, в голове застучало молотком. Наши-то где— мать, Люба, Миша? Они-то хоть уцелели, живые? На воле или нет? Где их искать среди ночи? У кого про них спросить? А Полина? С нею что и с ее матерью? Может, и над ними учинили такую же расправу? «Скорей, за мной!»
Дергаю Саню за рукав н бегу к дому Полины. Не улицей, понятно, а в обход, на улице может быть полицейский патруль. Подбегаем к огороду. Вижу — дом, слава богу, на месте, целый дом, не тронутый. В окошке огня нету, давно спят, конечно, время уже позднее. Саня говорит: «Не спеши подходить. Вдруг там засада?»
И верно. Вгорячах я как-то про это не подумал, совсем другим занята голова, а оно и правда — в доме Полины полицаи с немцами могли устроить засаду. На случай, если я появлюсь или какой посыльный. Но деваться некуда, обратно не повернешь, нету мне ходу обратно, покуда все не разузнаю. Приготовили гранаты, взяли на взвод наганы. Стали подходить. Саня призадержался около сарая, за углом. Я — прыжком под окно. Прижимаюсь к стенке и стучу. Раз, другой. В доме ни звука, долго никто не откликается. Уже беспокоюсь, уже сам не свой. Есть кто живой там или нету? Стучу опять... Ага, замерцал огонек, заколыхался. Видно, Полина узнала мой стук. Заглядываю одним глазом с угла окна. И совсем рядом, по ту сторону стеклнны вижу перепуганное лицо Полины. Она вся вскидывается, прижимает ладони к щекам и опрометью — к двери...
Ох, Миша, Миша. Не могу писать про то, что дальше было, что я узнал через минуту. Столько лет уже прошло, столько пережил всего с той поры, а вот как вспомню опять, как представлю себе тот вечер — душа криком заходится, горло передавливает, будто клещами. Ох, тяжко, спасу нету... Страшные вещи порассказала мне Полипа. Рыдала и рассказывала, рассказывала и опять рыдала вместе со своей матерью, Авдотьей Ивановной.
Вот что тут было, в наших тихих Вербежичах.
Два дня назад это случилось. Опять в село вернулись немцы. Нагрянуло их немало. Стали вламываться во все дома подряд. Обыскивали чердаки, погреба, сараи. К нам тоже явились. Кочерга их, конечно, привел. Он, собака! Был совсем бешеный, харю от злобы перекосило. С ним были три полицая и несколько немцев. Стали они допытываться: где я, куда подевался? Где находятся те партизаны, которые подсылали меня в Вербежичи? Никто им, понятно, ничего не сказал. Они прикладом сбили Мишу, запинали его сапогами и без сознания уволокли, кинули в сарай. Взялись мордовать Любу с матерью. Опять без толку. И тогда на глазах у матери начали избивать Любу, сдирать с нее одежду, всяко над нем издеваться. Мать кинулась ее оборонять, подняла крик. Она проклинала Кочергу и всех этих зверюг, призывала на их головы страшную кару. Немцы приказали убрать, утихомирить старуху. Полицаи вытолкали ее во двор, за сарай и застрелили. А немцы в доме еще долго издевались над Любой... После всего этого, через какое-то время, и Любу, и Мишу увезли на машине в Людиново. Многих увезли, человек двадцать. Куда и зачем? Известно — для отправки в Германию. Если не отправили, то они еще где-то там, в Людннове, может — в гестапо.
«А под вечер в вашем дворе опять появился Кочерга с полицаями. Они облили все в доме керосином... и подожгли», — с горькими слезами закончила Полина рассказ.
Долго не мог я ничего промолвить. Ни слова не мог из себя выдавить. Сидел па табуретке, обхватив голову, и слезы сами текли из глаз, падали на пол. А в грудь как будто кол всадили, продохнуть нету никаких сил... Не ожидал я такого, не думал, что до такого зверства Кочерга может дойти. Дошел, пес бешеный, не побоялся, что на его голову падет расплата. Наверно, решил, что немецкая, гитлеровская власть навсегда теперь тут, навеки веков.
Кое-как я собрался с духом и спросил: «Мать кто хоронил?»
«Да мы, Тереша, кто же еще». «Когда похоронили?»
«Сегодня. Люди, конечно, помогли. И гроб сколотили, и могилу выкопали. Мать Сережина много помогала. После похорон до вечера была у нас. Про вас все говорили. Где вы да что с вами. Недавно только ушла Анна Максимовна».
А про тех наших, кого увезли, ничего не слыхать?»
«Ничего. Ни слуху ни духу... Да от кого узнаешь? В Людинове никто в эти дни не был. Увезли — значит, в Германию отправят, это уж точно».
И еще я спросил:
«Ну, а тут, у вас, был Кочерга?»
Авдотья Ивановна сразу заплакала.
«Да был, изверг, был, проклятый. Нас тоже собирается со свету сжить. Нету от него покою, никакой жизни нету, особливо Полинке, бедной».
«Мне дал три дня сроку, — горько пожаловалась Полина. — Сказал: «Будешь и дальше ломаться — поедешь следом за Любкой. Там с тобой цацкаться не будут». Ну что делать мне, Тереша? Где спасаться?»
Полина закрылась платком и разрыдалась. А мне-то каково было, Миша? У меня от всего этого сердце — пополам, а в голове звон и какая-то муть, перед глазами круги. Что придумать? Куда девать Полину из Вербежичей? Как ее спасти?
«Все, тебе нельзя больше тут оставаться, — сказал я. — Заберу тебя отсюда».
«Куда?»
«Да хоть в Буду. Там есть у кого перепрятаться».
«Какая там Буда, Тереша? Кочерга меня везде найдет. Всю полицию на ноги поднимет — и найдет. А как я маму покину? Они ее сразу... таж же, как твою. Что им стоит, этим зверюкам?.. Он и тебя уже везде ищет. Спрашивал в первый день, куда это ты пропал. Я сказала, что от красных скрылся, когда они в село пришли. А он засмеялся: «Чего-то он долго не вертается. Красных давно вытурили, а его все нема». Скоро придет, говорю. «Ну ладно, подождем». А сам аж зубами скрипит от злости».
«Уже дождался», — сказал я. Хотел было добавить, что сейчас мы с моим другом и товарищем Саней, который остался дежурить во дворе, пойдем и расквитаемся с Кочергой, как положено, да промолчал, сдержался.
Полина металась по комнате, руки ломала. То мать свою начинала успокаивать, то кидалась ко мне.
«Ну что же делать нам, Тереша? Что делать, скажи? Пропадем же мы, не будет нам теперь пощады от полиции».
«Я же говорю: пошли со мной в Буду. Прямо сейчас».
«Не пойду, Тереша. Не могу, прости, мой хороший. С мамой вместе тут погибну, а ее не покину. Прости».
Я видел — переубеждать ее бесполезно. Да все-таки попробовал.
«Ты вот что, Полина. Ты теперь, можно сказать, моя жена, хотя мы с тобой покуда и не расписались. Поэтому должна меня слушаться. Мама в доме останется — это ничего. Маму одну они не тронут. Какой с нее спрос? Она придумает, что сказать. Ну, скажет, что ты в Брянск уехала, к тетке и там жить осталась. А то еще дальше — в Смоленск. Пускай Кочерга догоняет. Побесится да и перестанет. Найдет, куда деть свою кобелиную силу... Да не будет больше тут никакого Кочерги! Не будет, Полинка! Слышишь? Мы этого гада живым не оставим. Я тебе слово даю. Я вам обеим клянусь!..»
Полинка перепугалась. Подскочила и ладошкой закрыла мне рот... И в эту самую минуту во дворе брякнула калитка. Да громко так. Будто ее не просто отворили, а пнули ногой.
«Ой! — вскрикнула, вся сжалась Полина. — Это он, Кочерга. Больше некому».
Стук в дверь. Точно кувалдой. «Полина! Открывай».
Заметалась по кухне, стала креститься Авдотья Ивановна.
Полину затрясло от ужаса.
«Он!.. Ой, Тереша, что нам делать? Пропали мы все».
«Не пропадем. Хорошо, что сам пришел. Тут я с ним за все и расквитаюсь».
«Тут? Что ты! Нас же потом сразу повесят».
Кочерга требовал все настырней:
«Полина! Цэ я, Иван! Чуешь? Открывай!»
«Иди, открывай ухажеру, а то еще обидится», — сказал я и встал около двери.
Полина взмолилась:
«Не надо, Тереша. Ради бога, не надо! Он потарабанит и уйдет себе, я же знаю, так уже бывало».
«Нет, упустить его нельзя. Просто так я отсюда не уйду».
Грозный голосина проревел уже под окном: «Полина! Ты шо там. оглохла? Открывай зараз, бо хату разнесу».
Кулак трижды бухнул по раме.
«Пьяный, — определила Полина. — Трезвым он почти не бывает».
«Вот и хорошо. С пьяным легче управиться. Открывай Сейчас я его быстро утихомирю».
Полина сделалась белей стены, загородила собой дверь.
«Нет, не открою, Тереша».
«Полина! — ревел в окно Кочерга. — Последний раз говорю! Чуешь?!»
Опять задребезжали стекла от его кулака. А потом под окном что-то ухнуло, стукнуло — не то об стенку, не то об землю... И Кочерга вдруг замолк. Тихо стало. Я подошел, выглянул в окно. И понял, в чем дело.
«Это Саня его усмирил, товарищ мой... Все, Полина, мы пошли. Прощай. Когда опять наведаюсь — не знаю, обещать не буду. Но ты знай, что я тут, неподалеку. Не теряй меня. Поняла? Ну вот. Кочерга больше тебя мордовать не будет. Мы ему сейчас вынесем партизанский приговор. Прощай, Полинка. До свидания, Авдотья Ивановна».
Я выскочил во двор, забежал за угол. Кочерга лежал на снегу вниз лицом и совсем не сопротивлялся, только тяжело храпел. Саня сидел на нем и вязал ему руки за спиной. Поднял на меня глаза: «Он?»
«Он самый».
«Я сразу догадался. И наганом ему, собаке, по темечку. Он рухнул, как мешок с дерьмом... Давай, помогай.»
Ремнем скрутили мы Кочерге руки. Втолкали ему в рот рукавицу. Тряхнули хорошенько п повели со двора, к лесу.
Мы увели его далеко от села. Он быстро понял, куда мы его ведем. Падал, ползал перед нами на коленях, ревел слезами, пощады просил. Но жалости у нас к нему не было. И прощения ему быть не могло. На краю оврага вынесли предателю приговор. По нашему, советскому закону. За измену Родине. За издевательства над советскими людьми, разбой и грабеж. За пролитую кровь и за все слезы наших земляков. За мою мать и мой дом.
21 октября.
Несколько дней не писал. Что-то вдруг упало настроение. То ли от болезни, то ли просто от усталости, от переживаний. Подумал: может, и не нужно все это никому, может, совсем неинтересной покажется тебе моя писанина? Ну да ладно, коли уж взялся за гуж, то на полпути бросать его неловко, стыдно перед самим собой. Выходит, братец, не вытянул, духу не хватило?
Словом, буду тянуть дальше. Начал вторую тетрадку. Одной не хватило.
Вот так, Миша, в один день, в один час я потерял тогда дом и всех родных. Мать свою даже похоронить не смог. Что увижу когда-нибудь Любу и брата Мишу, тоже не надеялся. В ту пору я не очень верил, что кто-то из тех, кого увозили в Германию, вернется живым на родину. Думал — все, это уже с концом, обратной дороги оттуда не будет. Никто бы теперь меня в Вербежичах не ждал, если бы не Полина. Одна она только и осталась. Тосковал я по ней день и ночь, сильно тосковал. Да и беспокоился за нее, чего там говорить. В любую минуту с ней могли расправиться так же, как с моей сестрой. И недели через две после того, после приговора Кочерге, я с разрешения Сергея потихоньку пробрался в село, проведал Полину. Она очень этому обрадовалась. Пробыл я у нее часа три. Ушел перед утром.
У нас, в группе Стебелькова, шла напряженная боевая жизнь. Одно за другим подкидывал нам задания Лесовик. Мы, конечно, их выполняли. И я старался каждый раз идти с ребятами на задание, только бы каждый день бить, бить, бить фашистов, уничтожать полицаев, не давать им спокою, шагу не давать ступить по нашей земле.
Было начало февраля. К весне дело пошло. Морозы ослабли. Днем ярко светило, пригревало солнце, перезвон стоял от капели, а небо как будто приподнялось и распахнулось. Все напоминало прошлую мирную весну. Но появлялись в небе, ревели немецкие самолеты — и сразу забывалась, далеко-далеко отступала прежняя, довоенная жизнь.
Нам передали, что утром десятого февраля из Людинова выйдет большой обоз. Немцы и людиновские полицаи поедут в Колчино грабить наших крестьян. Отпор им такой надо дать, чтобы долго помнили. Мы стали готовиться к этому. По всем правилам решили встретить дорогих гостей.
Перед Колчиным у нас давно был намечен заградительный рубеж — высокое такое, удобное место. Большой участок дороги виден отсюда, как на ладони, от пуль скрыться некуда. Стебельков загодя собрал всю нашу группу, и с восходом солнца мы заняли свою позицию. Для встречи гостей выставили два станковых пулемета и три ручных. У всех были винтовки и по нескольку гранат. На колчинской церкви устроился наш дозорный — Саня и наблюдал за дорогой. Сидели мы в засаде часа два. Но вот Саня примчался на позицию и сообщил, что обоз движется, он уже близко. Стебельков подал команду — приготовиться к бою.
Мы притаились, подпустили обоз как можно ближе, дали ему полностью выйти на незащищенную пустоплешину. И ударили из всех стволов. Огонь был такой сильный и неожиданный, что немцы с полицаями ошалели и не могли сразу сообразить, куда им кинуться и в какую сторону стрелять. Многих мы скосили первыми же очередями из пулеметов и прицельным огнем из винтовок. Те, что успели поспрыгивать с подвод и залечь по обочине, отбивались недолго, пригвоздили мы их к земле и пулями, и гранатами. Ни одному не дали подняться, ни один живым не ушел. Встретили так встретили! От всей души. Наши до последнего момента были молодцами, никого даже не поцарапало. И вдруг упал, повалился командир, Сергей Стебельков. Он бил из пулемета по фашистам и не уберегся, угодил под их автоматную очередь. Его тяжело ранило в грудь. Вот какая беда, какая невезуха!.. Надо было немедленно уходить с места боя. Мы быстро сделали из двух жердей носилки, перевязали, уложили на них командира, подхватили станковые пулеметы и подались подальше в лес. Оружие опять попрятали в тайники и остались около своего командира. Сергей пришел в себя, оглядел нас, как будто пересчитывал, все ли живы, и приказал ребятам немедля возвращаться в села, по домам, чтобы не было подозрений. Возле себя задержал только меня и Саню.
Попрощались мы с товарищами, проводили всех, сами взяли носилки и пошли в ту землянку, где уже однажды ночевали. Тут мы согрели воды, обмыли Сергею рану (пуля прошла навылет), заново перевязали и стали думать, что же нам дальше делать. Ясно было: оставлять Сергея в лесу нельзя, одни, без врача, мы его не спасем, потеряем командира и друга.
«Надо нести в Колчино, ко мне домой, — сказал Саня решительно. — У нас в Колчине есть врач. Хороший старый врач. Ему верить можно, не выдаст».
«А вдруг — немцы?»
«Скорей всего они нас будут искать в лесу, а не в селе. Надо идти. Другого выхода у нас нету», — настоял Саня.
Да и я понимал, что нету. Надо было во что бы то ни стало, как можно быстрее спасать Сергея. Мы дождались темноты и пошли в Колчино. Саня сбегал вперед, разузнал обстановку в селе, и только после этого мы принесли раненого в дом. Сергей был без сознания, метался, бредил. Саня сразу же кинулся за врачом. Через полчаса привел высокого сухощавого старика в очках. Врач снял черное долгополое пальто, попросил горячей воды и вымыл руки. Внимательно осмотрел раненого, ощупал спереди и со спины, прослушал его дыхание и пульс. Потом снял очки, поглядел на нас, покачал головой и прямо, без обмана сказал: «Очень тяжелое ранение. Исключительно тяжелое. Спасти его невозможно. Пуля была коварная. Прошла под самым сердцем и порвала плевру. У него очень сильное внутреннее кровоизлияние. Я бессилен что-либо сделать». Извините, друзья. При всем желании ничем не могу помочь».
Но все равно, прежде чем уйти, он старательно обработал рану, наложил свою повязку — из чистого, стерильного бинта и дал выпить Сергею какого-то лекарства.
Больше нам помощи ждать было неоткуда. На господа бога мы не надеялись. Оставалось только считать, сколько еще часов протянет, продюжит наш Сергей. Мы сидели около него, как оглушенные, в полном отчаяньн.
К Сане забежал один из наших парней и сказал, что Лесовику уже доложили про Стебелькова. Уход за раненым Лесовик поручил мне и велел сообщить состояние Сергея.
«Очень тяжелое. Так и передай, — сказал я. —Надежды никакой нету. Был врач. Это его слова».
Сидеть сложа руки я не мог. Оставаться до утра в Колчнне, в Санином доме, к тому же было опасно. После того побоища, что мы устроили, немцы сейчас начнут зверствовать, прошарят все село, прочешут окрестные леса. Если налетят утром, нам уже будет не уйти.
«Можешь коня раздобыть?» — спросил я Саню.
«Попробую».
«Тогда давай, бегом».
22 октября, утром.
Верно, Миша, в народе говорят: одна беда по свету не ходит, одна пришла — жди другую. Только что я потерял семью, теперь помирал мой боевой товарищ и друг, односельчанин мой Сергей Стебельков.
Нашел-таки Саня, выпросил у кого-то лошаденку, запряженную в розвальни. Положили мы на них командира и повезли в Буду, к Евсеичу, — это от Колчина пять километров. Привезли. Я остался тут, а Саня погнал поскорее лошаденку обратно. И до самого утра мы с Евсенчем хлопотали около раненого, даже не прилегли. Да только ничем не могли облегчить Сергею его тяжкие страдания. Он весь горел. Он стонал и почти все время был без памяти, в бреду кого-то звал и протягивал руку. Очнется, попросит нить, поглядит на нас с Евсенчем, спросит что-нибудь, попытается приподняться, но опять закроет глаза и впадет в забытье. Измучились мы за него. Казалось нам, что у этой ночи не будет конца.
Начало светать, и я говорю Евсеичу: «Наверно, пойду в Вербежичи, приведу сюда Сергееву мать. Пусть хоть попрощается с ним. Недолго ему осталось».
«Куда там ты пойдешь? — Евсеич мне. — Ходок сыскался. Вас, ходоков таких, немцы да полицаи теперь только и ждать будут на всех дорогах да в каждом селе. Днем тебе там никак нельзя появляться».
«А если немцы сюда припрутся?»
Евсеич молчит, хмурит брови. Потом говорит спокойно:
«Слышно будет, если появятся на том краю. И ты сразу в лес уйдешь. А я... что-нибудь придумаю».
До полудня вроде бы не было Сергею ни лучше, ни хуже. Все так же лежал он в полубеспамятстве на койке, за печью, а я сидел возле него, прислушивался, как он дышит.
Вдруг вижу — он открыл глаза, тяжело вздохнул повернул ко мне голову, еще вздохнул. И жалуется: «Что-то плохо мне, Тереша. Душно, дышать нечем. На свежий воздух... так хочется... Помогите мне подняться».
Взяли мы его под руки, вывели помалу на крыльцо. А он вдохнул морозного воздуха раз, другой и голову уронил, потерял сознание. Понесли осторожно, опять, уложили на койку. Он полежал и как-то быстро очнулся. Меня рядом увидел и говорит виновато: «Вот задал я вам хлопот кучу. Не думал, что так придется... Неужели я долго не встану, всю весну пролежу? Как думаешь, Тереша?»
«Да что ты, Сережа, — стараюсь я его подбодрить.
— Вылечим мы тебя, скоро поставим на ноги. Доктора настоящего найдем и вылечим, вот увидишь».
«Хорошо бы, — говорит он и пытается улыбнуться.
— Только бы поскорей, а то весна пройдет. А я люблю весной в лес ходить».
«И я тоже. Вместе пойдем. Вон и Евсенч подтверждает, что вылечим».
«Наших больше никого?..»
«Никого, все целы, не беспокойся».
«Хорошо... Только я один оказался невезучий. — Сергей задумывается, смотрит в окно. Потом говорит: — А ты не бросишь меня тут одного? Не бросай, Тереша. Ты же наш, мы с тобой из одного села. Не забыл?»
«Ну как же я забуду, Сережа? Нет, я тебя не оставлю, пока не выздоровеешь. Ты об этом даже не думай. И Лесовик сказал, чтоб я все время был с тобой».
Оп молчит. И вдруг вспоминает: «А где моя мама? Она знает, что я тут, что меня... Послушай, Терентий, привези скорей ко мне мою маму. И Тасю Клейманову привези. Помнишь Тасю? Самая красивая в наших Вер-бежичах...»
«Привезу, Сережа, — обещаю я ему. — Сегодня же привезу и маму, и Тасю. Потерпи немного. Вот найду коня и поеду за ними».
Глаза его теплеют.
«Мама с Тассй быстро меня вылечат, я знаю... Маленького мама меня от всего вылечивала. Она все умеет... все».
Сергей опять умолкает. Лежит с закрытыми глазами. Но не стонет, а как бы прислушивается к чему-то. Потом открывает глаза, но смотрит уже куда-то мимо меня.
«Знаешь? Когда я был маленький, я никого не боялся... Никогда никого... Вот какой был... Не веришь, да?»
«Что с тобой, Сережа? Тебе опять плохо?» — спрашиваю.
Он не отвечает и просит: «Пить... Хочу пить... Чаю… сладкого».
Евсеич подает мне маленький чайничек. Левой рукой я приподнимаю голову Сергея и пою его из горлышка чайника. Он с трудом делает два глотка и говорит совсем тихо: «Когда я был маленький... я никого не боялся... никого... Совсем нико...»
И роняет голову набок.
«Сережа, — зову его, — Сережа! Ты меня слышишь? Мы тут, мы с тобой, Сережа».
«Не тревожь его больше, — печально говорит Евсеич. — Все, кончается наш Серега. — Пригорюнился, постоял молча. — Давай положим его на пол. Так надо».
Мы взяли его с койки, опустили на пол, на разостланный тулуп. Сергей больше не открыл глаз и ничего не проговорил. Он только вздохнул два раза, не тяжело, а вроде с облегчением каким-то вздохнул — и все. Скончался...
Евсеич сходил к связному сказать, чтобы тот сообщил Лесовику про смерть нашего командира. Часа в четыре дня связной приехал на розвальнях, в которые запряжен был высокий гнедой конь, и передал приказ Лесовика: привезти в Буду мать Стебелькова, здесь его и хоронить ночью, незаметно.
22-го, вечером.
Как начало смеркаться, я погнал гнедого в Вербежичи. Это не так уж близко, все-таки семнадцать километров. Ехал и всю дорогу думал только об одном: как войти в дом Стебельковых, какими словами сказать Анне Максимовне про смерть сына, чтобы сердце ее выдержало, не разорвалось?
Приехал. Вошел... Стою у порога, шапку снял, а сказать ничего не могу. Свело губы, задеревенел язык... Анна Максимовна глянула на меня — и сама все поняла.
«Что... что с Сережей? Он ранен?»
Я смолчал. Или не успел ответить.
«Погиб?» — одними губами произнесла она.
«Да... Сегодня скончался. Ранен был... в бою».
«Где же он?»
«В Буде.»
Она не закричала, не заплакала навзрыд. Она села на скамью у стены, сгорбилась вся и долго так сидела. Забыла про все на свете, кроме своего горя... Потом проговорила:
«Я поеду в Буду и привезу его домой. Хоронить будем тут, на нашем кладбище».
Не хотелось мне перечить Анне Максимовне, не хотелось обижать ее, но был приказ командира отряда хоронить Сергея там же, в Буде, и я слово в слово повторил его. Она задумалась на минуту и все же настояла на своем: «Нет, похороним тут, поближе к дому. А с командиром я договорюсь, он поймет, ваш командир... Ты иди к Полине, тебе надо отдохнуть, по глазам вижу, как долго ты не спал. А я сама... съезжу за Сережей... И коня выпряги, с собой уведи. Я свежего найду, есть у кого попросить... Иди, Полина не чает, поди, тебя увидеть».
Противиться желанию матери в таком ее горе я не мог и тоже подумал, что Лесовик поймет и ее, и меня. Я объяснил, как найти в Буде дом Евсенча, выпряг своего коня и в нежданный час пошел к Полипе, от голода и усталости еле ноги тащил. Но у нее ночевать не остался. За их домом, сказала она, следят полицаи. Полина дала мне умыться горячей водой, накормила досыта и и проводила к знакомым, через несколько домов, тут было безопасней. Увел я с собой и гнедого, на случай, если придется уходить от погони. Поспать удалось часа три, не больше.
Утром, около восьми, Анна Максимовна привезла погибшего сына. Сергей лежал уже в гробу, Евсеич о том побеспокоился. От командира отряда Максимовна привезла мне короткую записку: похоронить Стебелькова сегодня же, да так, чтобы не угодить в лапы немцам. Делать это в Вербежичах было крайне опасно. Ведь отсюда до Людинова нету и пяти километров, а там — полно фашистов, неровен час и сюда нагрянут. Все надо было делать с большими осторожностями. Никому ни о чем. конечно, не говорили, двери в дом Стебельковых не открывали. Сидели у гроба только мы с Максимовной да Полина с матерью. На окраине села, в сторону Людинова. я выставил дозор — были у меня тут надежные ребята. Конь мой стоял наготове. Двоих стариков, дальних своих родственников, Анна Максимовна попросила выкопать могилу. Перед вечером, уже в сумерках, мы поставили гроб на сани, увезли на кладбище. И похоронили, засыпали мерзлой землей, пополам со снегом, боевого друга своего и командира Сергея Стебелькова... После похорон вернулись к Анне Максимовне. Чтобы не было ей в эту ночь совсем одиноко и жутко, Полина осталась у нее ночевать. А я снова запряг в сани терпеливого гнедка и подался обратно, в Буду, — доложить командиру отряда, что последний долг перед Стебельковым мы выполнили...
И не стало у меня друга. Того дорогого друга, с которым ходил на опасные задания, плечом к плечу не раз был в бою, уничтожал фашистов и верил в нашу победу. И сделалось мне без него совсем сиротливо, как будто потерял еще кого-то из нашей семьи. Друзья, Миша, бывают разные... С иными расстаешься — и не жалеешь о том, не сокрушаешься нисколько. Но боевой друг стоит двух. Он — как брат. И даже больше брата. Ему вообще цены нету. Правду говорю. Запомни это, Миша.
23 октября, в сончас.
За смерть Сергея Стебелькова мы потом немцам отомстили. И не раз. Подорвали, пустили под откос еще один эшелон. Расстреляли обоз около села Охотня. Закидали гранатами и сожгли две легковушки с каким-то большим эсэсовским начальством. Расправились не с одним полицаем. На наших минах подрывались немецкие грузовики. Пока лежал снег, мы ставили противопехотные мины даже на лыжный след, и они тоже хорошо срабатывали против фашистов. Однажды в Людинове, уже под вечер, из-за высокого забора я бросил в немцев связку гранат и успел скрыться, благополучно уйти. Но когда Лесовик узнал про это, он меня крепко отругал. Всякое самовольничанье запретил настрого. А мне тем более не позволено было ничего такого делать, я же теперь был командиром группы, вместо Стебелькова.
Мы надеялись и ждали, что если не к концу зимы, то до лета уж точно наши войска остановят немцев, погонят обратно, на запад, фронт начнет приближаться к нам, и мы встретим Красную Армию, станем в ее строй. Но фронт ушел очень далеко, за многие сотни километров, мы оказались в глубоком немецком тылу, в плотном окружении врагов, и действовать нам становилось все труднее.
Во время одной операции, в начале мая, нас окружили. Отряд был разбит, как про это ни горько говорить. Многие наши полегли в отчаянном бою. Многие остались в кольце ранеными. Почти все те, кто пробился сквозь немецкий заслон, ушли в леса, по направлению к Смоленщине. Нас осталась тут малая горсточка: я в Буде. Саня и еще двое — в Колчине да двое в Вербежичах. А самая беда была еще в том, что я потерял с Лесовиком всякую связь и даже не знал, живой он или нет.
Недели две мы отсиживались по селам, по своим углам, никуда, ни на какие задания не выходили и друг с другом не встречались. Пусть немцы немного поуспокоятся, поверят, что партизан или «диверсантов» больше в окрестностях Людинова не осталось. Но долго сидеть, ничего не зная, без связи со своими, а самое главное — с командиром отряда, я не мог, не имел права. Не для того нас тут оставили, чтобы мы прятались по норам, точно крысы. Я ждал из Колчина связного. Он все не приходил. И тогда я сам решил идти в Колчино.
Пришел туда, когда стемнело. Осторожно приблизился к Саниному дому. Может, у него уже побывал связной от Лесовика, и Саня знает что-нибудь важное для нас? Во двор сразу не пошел, понаблюдал за домом со стороны, из сада. Ничего подозрительного не заметил. В окне, за белой занавеской светился огонек. И во дворе, и в доме было тихо, спокойно. Я пробежал по саду. Прижимаясь к стене сарая, пошел на огонек. Только высунулся из-за угла... и страшной силы удар по голове вышиб меня из сознания...
Очнулся я в каком-то доме, на полу, со связанными руками. Над собой, как в тумане, увидел четыре незнакомые рожи: полицаи. Когда я открыл глаза, они злорадно заухмылялись.
«Ну что, заяц, отпрыгался? Попал в ловушку? Со всеми вашими так будет. Ясно тебе?»
«Утречком доставим тебя, куда надо, и там тебе покажут кузькину мать. Кое-где пощекочут».
«Будет потом чего рассказать своим дружкам на том свете».
Один из них подошел и пнул меня сапогом в лицо.
«Подымайся, герой, тудыт твою... Перед нами смирно стоять надо. Говорить будем».
Другой засмеялся и сказал: «Стой, Владя, не порти ему портрет, его же опознавать придется. А после — красоту ему наведут и без тебя».
Они заставили меня подняться. Показали на стол:
«Ну и где ты, соколик, взял эти цацки? Говори».
На середине стола лежало мое оружие — наган, финка, гранаты. Я глянул и отвернулся.
«Не хочешь говорить? Хрен с тобой. Завтра заговоришь, как миленький. Не токо заговоришь, но и запоешь. Это мы тебе гарантируем».
Меня увели в бывшую колхозную контору. Не развязывая рук, заперли в темной комнате. Приставили охранника. Утром два полицейских повезли меня на подводе в Людиново. Там они сдали меня в гестапо.
К этому я был готов. Каждый из нас, кто тут остался, знал, что может быть схвачен немцами. Это же — война. А на войне и гибнут, и попадают в плен. Да меня досада брала и зло на себя за то, что попал так по-дурному: напоролся на засаду. И где? В Санином дворе, около дома своего же товарища-подпольщика. Понимать это надо было просто: значит, Саню тоже схватили, а дом его полицаи день и ночь держали на примете, следили за ним неусыпно. Еще по дороге в Людиново я решил, что так оно, видать, и случилось — в эти дни взяли и Саню, потому и не было от него никаких вестей. А в гестаповской камере узнал от одного человека, что держали немцы тут паренька по имени Саня, сильно мучили его, а два дня назад увезли на расстрел. До крайности жалко мне стало Саню. Парень он был смелый, горячий, товарищ преданный и душевный...
Били в гестапо, Миша, по-страшному. Били и пытали, пытали и били. Выкручивали руки, жгли железом, раскаленными щипцами вырывали ногти на руках и на ногах, потом обливали холодной водой и начинали все сначала. Допрашивал меня наш, русский, следователь по фамилии Воробьев. Из тех же, продажных сволочей, отпетых изменников. Уж он меня запугивал, уж он, падаль протухлая, издевался надо мной да стращал виселицей. А я ему потом в харю плюнул: «По тебе давно виселица
знывает!» И больше ничего он из меня не вытянул, этот тип с тонким крысиным носом и гадючьими глазенками. В таких случаях приговор у них один — расстрел... Но я так и не понял, так по сей день и не знаю, что им помешало это сделать или кто отменил приговор. Три дня я ждал расстрела. Но вывели меня из камеры не под пулю, а для того, чтобы отправить в Германию, в концлагерь.
Тогда же, вечером.
Погрузили нашу партию, загнали, как скот, в грязные вагоны, закрыли наглухо и повезли на запад, почти без остановок. Большая остановка была в Минске. Когда нас перегоняли из одного места в другое, мы втроем совершили побег. Ловко сумели скрыться: раздобыли немного продуктов и вдоль железной дороги стали пробираться обратно, на восток. Добрались почти до самого Гомеля. Но тут наткнулись на немцев, и нас опять схватили. Колотили зверски, допрашивали день и ночь, пятеро суток не давали уснуть. Выпытывали, кто мы, откуда и почему оказались около железной дороги. Заставляли признаться, какое у нас было задание и где прячется наш партизанский отряд. Мы загодя договорились твердить одно: идем из-под Бобруйска в Гомель, к родственникам, чтобы наняться там на работу. Так нам и поверили!.. Но все-таки, видно, надоело им с нами возиться, и под специальным конвоем нас препроводили в Бобруйск. Таких, как мы, тут немцы собрали не одну тысячу. В Бобруйске пленных не задерживали. Трамбовали в вагоны и везли дальше на запад.
И оказался я на польско-немецкой границе, в городе Граево. Здесь был большой лагерь. В нем нашего брата как бы сортировали и увозили в Германию. Кормили чем попало и кое-как, чаще всего похлебкой, похожей на помои. От нее воротило, но это пойло приходилось хлебать. Мы еле ноги таскали, и все равно нас каждый день заставляли работать. Гоняли на железную дорогу. Я пригляделся тут к местности, к расположению охрани и однажды попробовал отколоться от работающих. Не заметят — спрячусь, убегу. Заметили, волки! Тут же налетели, сбили с ног и месили, сколько хотели. Потом еще и в лагере били — «за отклонение». И выслали в лагерь еще похлеще этого — в штрафной Мозах, под Мюнхеном.
Это, Миша, был настоящий лагерь смертников. Тут пленных убивали на каждом шагу, убивали по причине и без всякой причины, стреляли в них, просто как в мишень. Да они и сами мерли, как мухи, от истощения и болезней. Я тоже сильно заболел, уже прощался с этим светом. И наверняка протянул бы ноги, если бы меня не спас товарищ по беде, сосед по нарам Александр Тюленин, он был родом из Горьковской области, со станции Петушки. Он ходил за мной, как за маленьким, подкармливал непонятно где и как раздобытыми кусочками черного хлеба и вареной картошкой. Ему я обязан, что остался тогда живой, и помню это всегда... В те дни я все время думал о своих родных — сестре Любе и брате Мише. Что с ними? Если живы, то где они? Неужели — в таком же концлагере, как я?.. Не переставал ни на минуту и беспокоиться о Полине. Ее же могли тоже схватить — из-за меня. А у нее должен был родиться ребенок — вот какой она осталась без меня...
Наступила весна сорок четвертого года, памятная, Миша, для меня весна. В конце апреля меня перевели в один из самых страшных немецких лагерей — в Дахау. Тут людей не было. Были только номера. Я стал номером 67813. И дорога отсюда вела только в одном направлении — на тот свет. Это я знал заранее. А когда попал сюда, убедился в этом окончательно.
27 октяоря.
Остановился в том апреле, а дальше не мог двинуться, не мог написать ни слова. Три дня прела моя тетрадка под матрацем, не трогал ее, не открывал. Мужики в палате заметили это и пристали ко мне:
«Ну что, Терентий, закончил свое завещание или эти... воспоминания? Дай почитать... Не бойся, никому не расскажем. Честно, мы только для себя».
Кое-как от них отбился: «Да отстаньте, не закончил еще. Быстрые какие».
«А долго еще воспоминать будешь?»
«Не знаю. Это дело такое...»
«Ну ладно, — говорят, — мы подождем».
Ждут...
Вспоминать, Миша, что мне выпало перенести, пережить с того апреля — все равно, что душу рвать на части. Но придется вспомнить. В последний раз, конечно. Чтобы никогда больше про то не вспоминать и не говорить. Вот так.
Концлагерь Дахау, чтоб ты знал, немцы построили среди болот, на месте болот. Осушали эти болота пленные в первую мировую войну. Говорили, что кости свои тут оставили полтора миллиона человек. Сюда нас и привезли по этапу. Сгоняли в баню. Выдали полосатую лагерную форму. И в первый же день просветили нас: «Итак, забудьте, что вы когда-то были людьми. Людей здесь нет. Запомните: с этого дня вы просто рабочий скот. И как всякий скот, обязаны работать, иначе вас не будут кормить. Вы обязаны работать на великую Германскую империю, для ее победы и процветания. Кто не может или не хочет работать — пойдет в крематорий, на удобрение. Ваш рабочий день — шестнадцать часов. Никаких выходных. Для вас отдых — это ревир, лазарет, или — крематорий. Запомнили? Все!»
Такой нам зачитали, можно сказать, приговор: изо всех сил, до последнего работать на Германию. Ослабел, упал, не смог подняться на работу — лазарет или крематорий. Это было одно и то же, мы знали. Еще в начале войны Гиммлер издал приказ: в концлагерях с пленными не церемониться, попусту Не возиться, время и средства на них не тратить. Попал в лазарет — умерщвлять немедленно. Труп — это хороший товар, это сырье для крематория. Чтобы сделать германскую землю самой плодородной, самой богатой, нужны удобрения, как можно больше удобрений. А пепел из трупов — превосходное удобрение. Так что — больше трупов! Больше пепла!
Погибельный это был приговор. А погибать не хотелось. Мы же знали, — эти вести проникали и за колючую проволоку, за стены концлагеря, — что наша армия окружила и разбила немцев под Сталинградом, перемолола их танки на Курской дуге и теперь громит фашистов на всех фронтах и гонит, гонит на запад — к тому логову, откуда они пришли на нашу землю. Ведь уже была весна сорок четвертого года. Мы ждали освобождения, верили в него, ждали полной победы над гитлеровскими полчищами, и так хотелось дожить до этих счастливых дней. Но только как было дожить?..
Ровно три недели, день в день, держали нас на карантине, в специальном блоке иод номером 19. Это одно только название — карантин. А на самом деле это были три недели жестокого, бесчеловечного издевательства над нами. Ежечасно, ежеминутно из нас продуманно, по специальному плану выматывали силы, в нас убивали волю, характер, способность к сопротивлению, убивали человека. Целыми днями, с подъема и до отбоя, из нас делали послушных скотов — гоняли строем, обучали, как полагается приветствовать лагерное начальство, эсэсовских чинов. На ежедневной поверке держали по два часа, в любую погоду. Кормили — тоже как скотину. В день давали триста граммов хлеба, если это моя но назвать .хлебом (половина в нем было опилок), две картошки в мундире да миску мутной, тошнотворной жижи — брюквенный суп. И не дай бог было нарушить режим, распорядок, не туда ступить,не так повернуться, неловко, неумело что-то сделать. За это наказывали тут же, наказывали зверски. А многих провинившихся и вешали. Прямо на плацу. Перед строем. Чтобы все видели и помнили ежеминутно: это ждет каждого. Не все выдерживали такие пытки, многие бросались па электрическую проволоку или под автоматную очередь. Люди гибли, гибли, гибли каждый день... И чем сильнее паша Армия била немцев на фронтах, тем больше они зверели тут, в тылу, особенно в концлагерях. После карантина стали нас гонять па работу в каменоломни. Каждый день многие оттуда не возвращались. Конвойные расстреливали пленных из автоматов просто так, без всякой причины. Один — с тоски, другой — злобу свою сорвать, а третий — для счета, чтобы хвастать потом, сколько он уложил «красных». Меня эта участь миновала совсем случайно. Я вдруг попал в команду, которую этапом перевели в другой лагерь — за двадцать пять километров от Дахау. Тут было не легче н не слаще. Те же порядки, тот же конвой. Но убивали поменьше, не так часто. Водили на военную фабрику. Заставляли делать самую тяжелую и самую грязную работу. Тут я вскоре сдружился с двумя верными товарищами, и мы задумали во что бы то ни стало бежать, хотя знали: за это нам грозит виселица.
28 октября.
Война доставала немцев уже и здесь, в их тылу. В середине июля наш концлагерь бомбили американские самолеты. Бомбили основательно. Фабричонку разрушили и сожгли. Лагерные постройки, бараки сильно разбили. Во время бомбежки мы тоже понесли потери. На фабрике погибло двадцать семь наших товарищей, почти тридцать человек ранило. Пережили мы это тяжело... Нас вынуждены были перевести в соседний лагерь — Гермеринг.
Месяц прошел. Налеты участились. И немцы установили такой порядок: завоет сигнал воздушной тревоги — нас быстро выводят группами в поле или в ближайший лес, после отбоя гонят опять на работу или обратно в лагерь. Наша тройка сговорилась: бежим во время налета, в один из ближайших дней. В четверг нам повезло. Тревога! И наша группа попадает в лес... Пока рвались бомбы, мы стали уходить в лес по одному. Встретиться договорились вечером, в условленном месте. Я бежал и бежал в глубину леса, пока были силы, пока хватало дыхания. На ходу сбросил с себя полосатую форму, остался в одном белье. Потом упал среди кустов, на крохотной полянке, и долго лежал с закрытыми глазами, прислушивался, нет ли погони. Не заметили? Убежал? Теперь я на воле? В это я еще не верил, и на душе было неспокойно и тяжело... Бомбежка прекратилась, улетели самолеты. Стало тихо...
В глубине леса я пробыл до вечера. Когда потемнело, стал пробираться к дальнему мысу, где мы должны были все трое сойтись. Вот лес поредел, уже близко опушка. И вдруг — окрик:
«Wer ist da?.. Kommt! Schnellerb» /Ред.: «Кто тут?... Сюда! Быстрей»/
Засада! Я замер. Но рук не поднял. И тут же — выстрел! Откуда-то сбоку. Я прыгнул за дерево. Пригнулся и побежал. Изо всех сил, как только ноги могли. Сзади грохнуло еще три раза... Пробежал я, наверно, километра два. И только тут почувствовал, что ранен. Пуля резанула меня по правой ягодице. Чуть бы пониже — и разворотила бы бедро, никуда бы тогда не ушел, рухнул бы на месте. Перевязать рану было нечем. Обтер кровь листьями с дерева да и двинул дальше. Всю ночь я шел, пробирался по лесу. Куда? Сам не знал. Только бы держаться на восток.
И вот до меня донесся гудок паровоза. Ага, значит, где-то неподалеку железная дорога. Ее придется переходить, а уже дело к утру, скоро светать начнет. Надо торопиться. Я пошел в том направлении, откуда долетел гудок, и вскоре вышел к насыпи. Пересек рельсы и увидел дом на опушке леса. Обошел его. Тихо, нигде никого. Хозяева, конечно, еще спали. За домом стоял стог сена. А я валился с ног, идти дальше не было никаких сил. Я поглубже зарылся в стог. Долго дрожь меня колотила, аж зубы стучали. Но все же согрелся понемногу, и сон меня одолел. Да такой глубокий, что проспал я весь день, часов до четырех или пяти. Когда проснулся, не сразу и понял, где я и что мне надо делать. Но мысли быстро заработали: отсиживаться на одном месте нельзя, надо действовать. Я выглянул из укрытия и совсем близко увидел хлебное поле. Па нем работали три парнишка и три молоденькие девушки, почти девочки. Они жали пшеницу, вязали ее в снопы и ставили в суслоны. Пригляделся я к ним и понял, что наши это парнишки и девчонки, увезенные немцами в рабство с нашей Родины. И еще я заметил у края поля, иод самым лесом, небольшую скирду потемнелой, прошлогодней соломы. Значит, первым делом надо туда перебраться, в скирду. От дома подальше и к ребятам поближе. Потом тихонько подозвать кого-нибудь из них п попросить помощи. Мне же надо было перевязать рану и поесть хоть немного, силы поддержать. Но когда же перебираться? Прямо сейчас или чуть позже, под вечер?. Пока раздумывал, гляжу — одна из девушек идет по стерне к дому. Такая худенькая, хрупкая. Лет шестнадцати, не старше. Только подошла она к стогу — я окликнул ее. Девушка вздрогнула.
«Ой, хто тут, господи?» — прошептала испуганно.
«Свои, не бойся. Я пленный, из лагеря убежал... Не уходи, послушай меня».
«Ой, — повторила она еще тише. — Наш, советский??
Огляделась по сторонам и быстро наклонилась, как будто поправляла стоптанный тапочек.
«Я раненый, помоги мне. девочка... И со вчерашнего ничего не ел».
Девушка распрямилась и, не глядя в мою сторону, негромко сказала по-украински:
«Зрозумила. От работу закончимо, и я вам що-нэбудь принесу».
«Только я буду не здесь, а вон в той скирде, под лесом. Придешь, не побоишься?»
«Ни, не побоюся. Обовьязково прийду», — пообещала она и пошла в дом.
У меня отлегло на душе. Появилась надежда, что не пропаду, смогу двинуться дальше, на восток.
После захода солнца я лесной закрайкой подобрался к скирде и закопался иод нее... Стемнело. Смотрю — идет, быстренько семенит моя спасительница. Я подал голос. Она подбежала, опустилась на колени, подала сверток с едой и кусок белой тряпки. Выпалила скороговоркой:
«Бинта нэма, не змогла взять. Завтра спробую раздо-уты бинта и трошки йоду... И поисты знову принесу. Увечери прийду. Раньше не можна. Побачать... Всэ, побигла. Завтра ждить».
И быстро пошла краем поля.
Я поел. Оторвал кусок чистой тряпки, положил на рану. Думал, после еды успокоюсь немного и усну. Но уснуть не мог. Неспокойно мне было. А вдруг девушка проговорится кому-нибудь про беглого узника? Вдруг завтра хозяева подглядят, как батрачка будет брать бинт, йод прятать, еду? Может, уже и заметили, что она бегала к скирде. Вызовут конвой и... Маялся я, маялся разными догадками, поздним вечером вылез из укрытия и стал уходить от этого места, от этого дома. Километра не прошел — закружилась голова, п я чуть не упал. Это от рапы, от боли. Рана распухла, ее дергало. Каждый шаг давался с трудом. Нет, видно, я еще не ходок. Надо отлежаться хоть немного, подлечить рану, йодом обработать, чтобы не загнила, дальше не воспалилась. И я вернулся к скирде, в слое логово... Ночью почти не спал. День показался годом. Еле дождался захода солнца. И стал наблюдать за домом немецкого хозяйчика. Гадал, придет или не придет моя спасительница?.. Но вот показалась на краю сжатого поля хрупкая фигурка. Вот она побежала между суслонами, прижимая к себе потайную ношу. Она все ближе, ближе. Так я ей обрадовался! Ах ты, думаю, умница, ах ты молодчина, добрая душа. Не побоялась и на этот раз, пошла. Теперь ты, считай, меня выручила, спасла. Завтра или послезавтра уйду я отсюда, не дамся фашистам... И вдруг наперерез девушке из перелеска выскочили двое, что-то рявкнули на нее и схватили за руки. Она выронила свой сверток и отчаянно вскрикнула, как птица, подбитая насмерть. Еще было не очень темно, и я различил, что один из тех двоих — в форме жандарма, другой—штатский, видно — хозяин девушки. Они заорали во всю глотку, выпытывали, как я понял, куда она шла, кому несла этот сверток. Грозили расстрелять или отправить в концлагерь. Девушка им не отвечала, только плакала горько и закрывала лицо руками. И тогда они стали бить ее. По лицу, по голове, по груди. Она упала, а они продолжали месить ее ногами. Жандарм снял пояс и принялся полосовать беднягу. Сперва она кричала, старалась как-то защититься от ударов, а потом стала только глухо стонать. А они ее все били, били, били. Как будто перед ними лежала на земле не девушка, не живое существо, а тюфяк с опилками... Кончат, подумал я. Эти не пощадят, кончат на месте, жалости в них нету ни капли. Зверье! Из-за меня убьют горемычную девчонку. А ее где-то там, на Украине, ждет мамка до своего дома, до хаты и не знает, как дождаться... А во дворе послышались выкрики и жалобный плач. Это вывели тех, остальных, и тоже начали бить, пытать. Я не вытерпел, Миша. Я не мог больше глядеть на эту казнь. Выскочил из проклятого логова и отошел от скирды на открытое место, чтобы палачи меня сразу увидели. Нате, гады, берите безоружного. Только девчонку больше не трожьте... Ну! Вот я, берите!..
29 октября
Дальше, Миша, как ты сам догадался, по новой закрутилась немецкая машина. Да еще как закрутилась.
Тот мордоворот, что бил девчонку, привел меня под пистолетом в свою жандармерию. Допросил. Спрашивал, откуда сбежал и почему ранен. Я ему ответил, что попал с группой под бомбежку, мы кинулись в разные стороны — прятаться от бомб, а эсэсовский конвой стал по нас палить, я потом и не вернулся, побоялся, что расстреляют, как за побег. А было это около концлагеря, который в восьми километрах от Гермеринга... Через полчаса жандарм повел меня на станцию, посадил в вагон и довез до города — это была третья остановка. Я так и ходил в одном белье, и немцы глазели, таращились на меня, как на пойманного волка. Я знал, что теперь мне одна дорога — на виселицу, и так жалел, что не было у меня в те минуты автомата, а то бы я напоследок устроил им небольшую молотилку, многие перестали бы таращиться.
В городе жандарм сдал меня дежурному солдату — своему же, жандармскому. Тот задвинул меня в большую мрачную камеру, или спецприемннк, не знаю, как наз: вать. В этой камере оказались две группы пленных — наши, русские, и французы. Все, конечно, сразу кинулись ко мне с расспросами. Но не успел я ничего толком рассказать, как дверь открылась, появился тот же солдат и показал мне — на выход. Он отвел меня в изолятор... Что я мог тогда думать? Ни одежды, ни еды мне не дали, посадили в одиночку. Значит — ближе к казни... В изоляторе каменные стены, каменный пол, голый деревянный топчан. Хоть сиди на нем, хоть лежи — все равно никакого отдыха. А из углов сыростью тянет. Как в могиле. Но примерно через час пришел солдат и швырнул мне аж три одеяла. Это уже ничего. Можно хоть согреться немного. Одно одеяло я постелил на топчан, двумя укрылся и уснул... Среди ночи меня разбудил тот же дежурный. Привел полусонного в чистую, светлую комнату. Молча показал на стол и стул. От голода, от слабости меня и так уже качало, а тут и вовсе замутило от того, что я увидел. На столе стояла миска макарон, бутылка лимонада, рядом лежал белый полукилограммовый батон. Мне? Все это?.. Я не поверил. И за стол не садился. Но солдат велел есть и сказал, что это я французов должен благодарить, это они прислали мне такое угощение. Я сел, пододвинул к себе миску, а глаза ничего не видят, застелило их слезами... Съел макароны, выпил лимонад. Батон сунул под мышку. Солдат разрешил забрать батон с собой, в изолятор, но приказал, чтобы до утра не осталось ни крошки. Уж это я ему обещал. И подумал про него: смотри ты, есть, оказывается, и среди немцев люди.
До утра я больше не уснул. А утром другой жандарм кинул мне штаны с какого-то пленного, посадил в поезд и повез в сторону Мюнхена. Двое суток меня продержали в участке, куда собирали таких же, как я, беглецов. На третьи — передали в мюнхенское гестапо. Тут продержали всего часа три. Потом вывели нас, большую группу, на этап. Во дворе битком набили крытую машину и повезли. Половину пленных выгрузили в штрафном лагере Мозах. Остальных, и меня с ними, привезли куда бы ты думал? В Дахау! Вот так, Миша. В аду, говорят, все кругами, да? Вот и я вышел на свой второй адский крут. Думал — теперь уж точно не выдержу.
Опять баня. Опять полосатая форма. Из бани эсэсовец меня сразу же крикнул на выход. За порогом ударил ногой в спину. Я упал. А он орет: «Завтра утром повесим!» Увел и втолкнул в бункер — изолятор, значит. Всю ночь я глаз не сомкнул в этой одиночке. Ждал казни.
Утром вывели меня на плац, поставили под виселицей. На грудь повесили доску. На ней черной краской было написано: «Опять я здесь». И простоял я с этой доской пятнадцать часов. На жаре. Голодный, без глотка воды. И в каждую минуту ждал, что сейчас придут эсэсовцы и повесят меня... Этот день, Миша, я запомнил на всю жизнь. Было двадцатое августа 1944 года...
Только после одиннадцати ночи меня увели с плана и положили в ревир—лазарет. И тут я узнал, вблизи увидел много такого, о чем только догадывался или слышал немного. Рядом со мной лежал черночубый, черноглазый парнишка с Украины, звали его Гришей, Грицьком. В ревире Гришу держали уже два года. Для чего? Для экспериментов, как лагерные врачи говорили. Двадцать два раза его правую ногу заражали туберкулезом. Потом лечили. Потом снова заражали. И так — без конца. Нога у Гриши от этих зверских опытов совсем высохла, и он еле наступал на нес. Ходячий скелет, он еле подымался. До слез жалко было смотреть на него. А таких, как мой сосед по несчастью — Гриша, было не перечесть. Их заражали туберкулезом и малярией, другими тяжелыми болезнями, про которые знали только сами фашистские доктора, испытывали на них новые лекарства. Для тех же самых жутких экспериментов многих замораживали в глубоком колодце, а потом воскрешали. Или вешали по нескольку человек сразу. Не насовсем, только на определенное время. Потом снимали и откачивали. Из пятерых выживало обычно не больше двух. Или гоняли пленных на полигон — для стрельбы по живым целям. Или заставляли разряжать авиабомбы — это тоже была почти верная смерть. В ревир узников загоняли и для того, чтобы брать у них кровь. Для фронта, для спасения доблестных гитлеровских солдат. Кровь брали всю, без остатка. Тела отправляли прямо в крематорий.
За побег меня сделали штрафником. У штрафников были свои отличительные знаки. На одежду заставили нашить четыре белых круга величиной с дно кружки, а внутри них — красные поменьше. Круг на груди, напротив сердца, и — на спине. Круги на штанах по бокам, чуть повыше колен. Таких нас набралось пятьдесят восемь человек — русских, украинцев, французов, итальянцев. Пятьдесят девятого приговорили к повешению: у него на спине был большой белый круг, это — виселица. Каждый раз на вечерней поверке эсэсовец объявлял приговоренному, что завтра его повесят. И так продолжалось изо дня в день. Бедняга таял у нас на глазах, стал, как тень, и ко всему сделался безразличным. Наконец, однажды вечером, его вывели из строя и при всех повесили... А каждый из нас, конечно, стоял и думал: кто же будет следующий?.. Штрафников держали в жутких условиях. Спали мы без постелей, в бумажных мешках. Три раза в ночь нас поднимали и делали поверку. Многих при этом ни за что ни про что секли плетками. А могли тут же и расстрелять любого или отправить на полигон. Мы понимали, мы уже видели, что гибель приходит фашистам на советской земле, вот они и зверствуют. Мы старались не падать духом. Помогали друг другу, поддерживали друг друга. Ждали часа освобождения.
30 октября.
Хочу тебе признаться, сын: кое-что из того, про что пишу, я иногда рассказываю и мужикам нашей палаты. По вечерам просят рассказывать, отбоя от них нету. Все удивляются, вздыхают и говорят: «Ну дела! Такое и во сне не приснится... Раньше про немецкие концлагеря, про их издевательства мы только в книжках читали да в кино глядели. А тут — живой свидетель, можно сказать — наглядный экспонат. Где мы еще про это услышим? Давай, Терентий, рассказывай». И не перестают поражаться, как мы там все это переносили, как выжили. Да я и сам до сих пор не могу понять, где мы брали силу, терпение, волю и веру в освобождение, в нашу победу.
В ноябре наступили хмурые и промозглые дни. Солнца не было видно. Часто моросил холодный дождь. В один из таких дней всех нас, штрафников, неожиданно вывели на плац, приказали раздеться догола. Мы решили: все, конец. Будут расстреливать... Стояли и ждали расправы, цепенели под липкой леденящей моросью... Смотрим — нет, не расстрел. Врачи лагерные идут. Комиссия. У всех нас проверили руки и зубы. После этого велели одеваться. И, не заводя в блоки, прямым ходом погнали на станцию. Привели к вагонам. За полчаса погрузили и повезли. Куда? Никому это не было известно. Может быть, туда, откуда уже не возвращаются. Мы знали, что весной сорок четвертого года в Дахау был сформирован этап в тысячу двести человек. Собрали инвалидов, у кого не было руки или ноги. Их отправили в Люблино и там сожгли в крематории. Всех до единого. Над французами фашисты вот что учиняли летом. Набивали их в товарные вагоны, закрывали наглухо и загоняли в тупик. Держали там до десяти суток. Потом открывали вагоны. Из каждого выживало не больше восьми человек. Но это были мертвецы, люди с того света. На них смотреть было жутко... Такую же казнь устраивали итальянцам. У мертвых вырывали золотые коронки, зубы и целые челюсти, затем отгружали трупы в крематорий...
Для нас это была не дорога, а пытка. Конвой издевался над нами, как хотел и сколько хотел. На остановках нам устраивали проверки с побоями. Били палками, деревянными молотками, хлестали плетками, полосовали поясами с железными бляхами. Нас почти не кормили. Несколько человек заболело в пути. Их немедленно пристрелили... На шестые сутки пас привезли в город Лангензальц, в здешний концлагерь. Только тут стало ясно, что крематорий нам пока не грозит. Привезли мае на бывшую текстильную фабрику. В ней теперь был большой авиационный цех, он выпускал самолетные крылья. Для работы в цехе и на разных подсобных работах сюда согнали две с половиной тысячи штрафников. Режим для нас установили самый жестокий. С нами обращались, как со смертниками. Избивали безо всякого повода. Истязали до потери сознания. Расстреливали не раздумывая. Многие умирали, не выдержав таких издевательств и насилия. И я опять решил бежать. Чтобы взять оружие и мстить фашистам за все. О том только и думал. И днем, и ночью. Нашлись мне и единомышленники. Втроем сговорились. Бежать вместе со мной были готовы Гога Мачаидзе, из Тбилиси родом, и паренек из Запорожья Ваня Лозинский.
Прямо под фабрикой, теперь — иод цехом, протекал ручей. Для него был проложен коллектор. По нему мы и надумали уйти. После вечерней смены задержались все трое в подсобном цехе, открыли люк и спустились в коллектор. Быстро разделись и пошли по воде, она была ледяная — ведь уже кончался декабрь, несколько дней оставалось до Нового, 1945 года. Мы прошли метров шестьдесят или семьдесят. И наткнулись на толстую железную решетку. Но мы знали, что закреплена она кое-как. Ставили-то ее наши же парни, грузины, Гогины земляки, и он с ними заранее обо всем договорился. За минуту мы выломали решетку и оказались на свободе, за территорией цеха. Отбежали от ручья, мигом оделись и — ходу отсюда, подальше от лагерной зоны. Прошли, я так думаю, километров семь. И на окраине какого-то села нарвались на патруль. Побежали. Раздались выстрелы нам вслед. Ваня упал, точно подсеченный косой. Мы с Гогой сумели уйти, скрыться. Шли всю ночь. Горевали, что нет с нами Вани. Вот не суждено же было нам погибнуть, а его нашла, достала-таки фашистская пуля... Перед рассветом остановились в перелеске, сели под деревом и прямо сидя уснули... Я проснулся первым, разбудил Гогу. и мы пошли на восток, по безлюдным местам. Но идти днем было опасно. Мы углубились в лес, разожгли костерок, обогрелись чуток и стали дожидаться ночи.
Ночью вышли к небольшому селению. И решили тут поживиться, запастись продуктами. Другого выхода у нас не было. Далеко ли утащишься без еды, с пустым желудком? Приходилось рисковать. Во втором доме от края, он был двухэтажный, Гога потихоньку выдавил стекли-ну на первом этаже, отдернул шпингалеты, открыл окно и влез в дом. Потом отворил дверь на улицу и впустил меня. Мы оказались на кухне. А немцы в это время спали себе на втором этаже. Продуктов мы набрали у запасливых фрицев не меньше, чем на неделю. Спокойно вышли из дома и — ноги в руки, как говорится. Надо было подальше километров за тридцать—сорок уйти из этого района. Утром обязательно начнутся облавы, и тогда нам отсюда не вырваться. И мы все шли, шли, останавливаясь только на отдых. Спали в сараях, в сене. Сена везде было много. Ночью шли, а днем отдыхали. Эта свобода наша длилась почти месяц. Но однажды нас издалека заметил охотник. И началась облава. Уходить от нее надо было только врозь, по одному. За групповой побег расстреливали на месте. Гоге не повезло, издалека я видел, как его схватили и стали избивать. Мне посчастливилось уйти.
Почти без остановок я шел остаток дня и всю ночь. На восток, на восток, только туда! Где лесом, где полем, где по оврагу или руслу ручья. Скорей, скорей, скорей! Не жалея ног, не жалея себя... Начало светать. Гляжу — у края поля сарай. На отшибе он. Поблизости — никакого жилья. Подошел, заглянул. В сарае полно соломы. Зарылся поглубже в солому и тут же уснул, как в яму провалился... И такая вокруг была блаженная тишина. Ничто меня не тревожило и никто мне не угрожал... Но вот мне стало сниться, как будто за мной началась погоня. Да еще с собаками. Откуда-то издалека до меня донесся лай немецких овчарок. Немного погодя он раздался уже ближе. Потом совсем близко... а теперь над самой головой... Нет, это не сон! Я вскочил, выпростался из-под соломы... Два здоровенных эсэсовца и два черных автоматных дула глядели на меня. И рвалась, оглушительно гавкала, злобной пеной брызгала на меня матерая овчарка с черной спиной. Они переглянулись и спустили собаку с поводка...
1 ноября
Что дальше было, ты уже можешь представить. Были, Миша, опять и побои, и допросы, и угрозы повесить, расстрелять. А допрашивали нас в гестапо вместе с Гогой Мачандзе. Но мы виду не подали. что знаем друг друга. Выдержали все побои и ни в чем не сознались. Не назвал я и своего имени. Выдал себя за Столярова Петра Васильевича, уроженца Белоруссии. Гоге следователь назначил два месяца штрафного лагеря. Мне приговор был пострашней: Бухенвальд!
Из Готской тюрьмы меня привезли в город Веймар. Когда подъезжали к нему, кто-то сказал, что здесь жил великий поэт Гете. А я подумал: да, взглянул бы великий на нынешние дела своих соплеменников. Кондрашка бы хватила. Из Веймара, с пересылки, провезли еще километров примерно восемь, и все на подъем. Выгрузили из вагонов. И первое, Миша, что я тогда увидал, — это большие медные буквы знаменитой бухенвальдской вывески на входной арке. Эти слова потом, после войны, узнал весь мир: «Каждому свое». Нас построили и повели в концлагерь. Посреди него была большая площадь. Немного подальше, по правой стороне, — крематорий. За ним — баня. Блоки были одноэтажные и двухэтажные. Весь лагерь делился на две зоны — рабочую и нерабочую. Меня загнали в нерабочую зону. Тут нас было тридцать тысяч. Кормили один раз в сутки. Выдавали двести граммов лагерного хлеба — с опилками, две картошки в мундире и пол-литра брюквенной бурды. На вечерней поверке каждый из нас получал жетон —это на завтрашнюю кормежку. Поверка продолжалась два часа. По любой погоде. Мы все терпели, ко всему приноравливались. Но невозможно было видеть и выносить, как умирали наши товарищи. Утром идем на поверку, а мертвых вытаскивают крюками во двор. Трупы лежали возле блока по двое-трое суток. Наш блок был номер 57. Нары в пять этажей. Два прохода. Полумрак и страшный смрад... Из нашего сектора трупы увозили ежедневно, они тут лежали штабелями. Крематорий работал без остановок, на полную мощность. Умирали узники чаще всего от истощения. Постоянный голод изматывал нас. И по ночам самые отчаянные ползком выбирались из блока и так же ползком, чуть не по-пластунски крались к свинарнику и рылись в помоях, отбросах, которые привозили чушкам. Спасали смельчаков темнота и туман. Да не всегда. По ночам раздавались автоматные, пулеметные очереди с вышек, и кто-то уже не возвращался в блок. Утром опять всюду были трупы, трупы, трупы. Как, Миша, все это назвать, если не адом?..
Да мне все же повезло. Пробыл я в Бухенвальде только три недели. В конце февраля попал в новый этап. Опять устроили нам комиссию, отобрали девятьсот человек, погрузили в эшелон и привезли в город Ротвальд.
Начали разгружать. А тут — воздушная тревога. Самолеты союзников налетели. Нас позагоняли обратно в вагоны, закрыли. И мы стали хорошей мишенью для самолетов. Они сбросили на нас все бомбы, а потом поливали эшелон из пулеметов... Улетели союзники, оставив после себя много убитых и раненых пленников. А думали, наверное, — большое дело сделали...
До вечера мы так и не смогли двинуться из Ротвальда. Тревоги продолжались. Одна за другой. Немцы загнали нас в туннель. Туда же приказали забрать и раненых, и убитых. Только после девяти вечера нас пешком погнали в местечко Шелберг. Пятнадцать километров мы шли пять часов, настолько все ослабли. Нам даже отдохнуть не дали. Утром подняли и сразу на работу. Кто поздоровей, тех определили в шахту, под землю. Остальных — на разные работы. Я попал в шахту. Тут, Миша, конечно, был не Бухенвальд, людей не вешали, не расстреливали, над нами не коптил круглосуточно крематорий. Но и тут люди гибли каждый день. Умирали от голодухи, полного истощения и от болезней.
На тринадцатый день работы под землей я тоже сильно заболел. С высокой температурой меня положили в лазарет. Битком тут было больных. Лежали прямо на деревянных нарах, в три этажа. За пятнадцать дней мне дали три таблетки — вот и все лечение. Зато насмотрелся я тут всякого. Смерть видел каждый день и каждую ночь. Мерли узники, как мухи. На их место приводили и клали новых кандидатов на тот свет... Однажды ночью гляжу со своего второго этажа — с нижних нар слезает один бедняга. На ногах еле стоит, качает его из стороны в сторону. Постоял, собрал последние силенки и стал пробираться к туалету. Кое-как дотащился. Попил водички. А назад идти уже не может. Опустился, горемыка, на четвереньки, пополз. До половины дополз, а дальше — духу нету. Сел, посидел немного. Опять пополз. Но у самого своего подголовника остановился. Как-то странно дернулся, ткнулся лицом в пол. Тяжело вздохнул три раза. И умер... Я думал — тоже не выживу. Но все же выжил, выцарапался из лазарета. А на третий день после выхода оттуда чуть не погиб.
Выписали нас тогда человек тридцать. Работать в шахте и даже на поверхности мы еще не могли, были очень слабые. Но работу нам все равно нашли. На кладбище. Мы стали вроде как похоронной командой. Кладбище было недалеко от лагеря. Там постоянно рыли запасные ямы. Их затапливало водой. Нас эту воду заставляли вычерпывать. Поставишь лесенку, спустишься в яму, а напарник опускает ведро на веревке, а ты черпаешь банкой воду, наполняешь ведро. Работали мы так с напарником часа три, и я в яме замерз. Вылез на солнышко погреться, а самого качает от слабости. Вижу — несут в ящиках мертвых. Прямо к нам. Принесли четыре трупа в двух ящиках и вывалили в яму. Принесли и бочку карбида. Эсэсовец небрежно ткнул пальцем на меня и еще одного, приказал спуститься в яму и поправить трупы, уложить голова к голове. Мы спустились и сделали, что было приказано. Я не успел подняться наверх, а эсэсовец как сыпанет из бочки карбид на трупы. Я вдохнул в себя эту белую пыль, потерял сознание и свалился в яму... В себя пришел уже наверху. Очнулся, а понять не могу, что со мной такое произошло. Увидел — яма уже завалена, бочки с карбидом нету, а я лежу на мокрой земле. И пролежал я так, Миша, не меньше трех часов. Потом увели меня под руки в лагерь, показали врачу. Тот оглядел, прослушал и сразу произнес приговор: очень сильное отравление, с таким — не выживают, через три часа мне — капут... Как видишь, ошибся фашистский спец. Я все-таки выжил. Им назло. Сам тому не верил, но выжил!..
Март закончился, апрель наступил. И неожиданно нас, всех слабых, вызвали на этап и повели на станцию Шелберг. Я боялся — не осилю эти три километра, упаду. Но кое-как осилил, дошел. На станции нас погрузили в длинные вагоны-пульманы без крыши. Вместо крыши была густая паутина из колючей проволоки. Опять куда-то повезли. В дороге давали на день двести пятьдесят граммов хлеба с опилками и крохотный, в десять граммов, кусочек комбижира. Воду — раз в три дня. Мор пошел среди нас. Умирали каждый день. Трупы утаскивали в последний вагон. Там их становилось все больше и больше... Никогда не забуду день шестого апреля. Наш эшелон задержали на одной станции. А на другой путь подошел пассажирский поезд. Из вагона напротив нас кто-то кинул полбуханки белого хлеба. Да не рассчитал — не докинул. Хлебушек упал на землю, рядом с путями, и так жалко было, что пропадает он, свежий да белый хлебушек, от какого мы давным-давно отвыкли, уже и запах его забыли. Молча, с печалью смотрели мы на эту половину буханки, а паренек один набрался смелости и попросил у конвойного разрешения спуститься и подобрать ее. Конвойный подумал, поглядел по сторонам, нет ли поблизости начальства, и разрешил. Паренек спрыгнул на землю, поднял хлебушек, и только успел сунуть за пазуху, как откуда ни возьмись вылетел начальник эшелона — зверь зверем был. Увидел эсэсовец такой «непорядок», затрясся весь, выхватил из кобуры пистолет и наповал застрелил паренька... Эшелон отправили, а у меня перед глазами все стояла та небольшая станция и тот бедный парнишка, которого никогда уже не дождутся дома. Кончится война, его мать с отцом забеспокоятся, что нет его с фронта, станут писать в Москву, разыскивать сына, а им ответят, что ни среди убитых, ни среди пропавших без вести такой не значится. Подождут они, подождут, опять не поверят, что нет сына в живых, и снова будут писать письма, посылать запросы и надеяться, что все-таки отыщется их сынок, придет и однажды постучится в дом... Но никогда не дождутся этого дня. Как не дождутся, не встретят по городам и селам и многие тысячи тех, кто остался лежать на лагерных кладбищах, кого сожрал, превратил в дым и пепел страшный крематорий...
Семь суток везли нас неведомо куда. И привезли в Дахау, будь он трижды проклят! Но вышло, что меж собой немцы толком не договорились. Прежнего порядка у них уже не было. Крах надвигался, и кругом были развал, паника. В Дахау наш этап отказались принять. В переполненном концлагере свирепствовал тиф, узники гибли тысячами. Неподалеку был другой лагерь — Алах. Сюда нас и втолкали кое-как. Из последнего вагона мы выгрузили восемьдесят два трупа. Двое суток они лежали позади бараков, потом их куда-то увезли. Даже мертвым не давали фашисты покоя...
Здесь, в Алахе. нас и освободили союзники. Случилось это, Миша, 30 апреля 1945 года.
Ликованию, радости не было конца. Выжили! Мы выжили! Все перенесли, вытерпели и дождались! Пришла она — так дорого, такою кровью добытая свобода. Мы отходили душой, привыкали к нормальной человеческой еде, возвращались к жизни. Возвращались как будто с того света. Впереди была дорога домой, в пашу Россию, в родные, милые сердцу края.
2 ноября.
Кончилась война. Фашистов разбили, раскорчезали их логово. Все, кто остался живой, дождались этого дня, облегченно вздохнули. Мы были уверены: эта война — последняя, другой такой никогда не будет и быть не может. После всего, что произошло из-за Гитлера, что люди увидели, пережили и потеряли, разве они допустят новую войну? Конечно — нет! И так тогда хотелось, Миша, поскорее вернуться в свое село, к привычной крестьянской работе. Пахать землю, сеять хлеб, строить дома, сажать яблони. И поскорее узнать, что с Любой, Мишей, Полиной. Живы ли они?..
Дорога домой получилась долгой. Не так-то просто оказалось перебраться из западной части Германии, из зоны союзников, к своим, советским войскам и властям, оформить нужные документы для въезда в свою страну. Нас же, таких лагерников, было несметное число, и со всеми надо было разобраться, всех определить на отправку.
Только в начале сентября, Миша, я сошел с поезда в Людинове и пешком, с котомкой за плечом, потопал в Вербежичи. Шел, а сам боялся туда идти. Боялся, что не найду там ни Полины, ни ее дома. Пока ехал от границы по нашей земле, нагляделся на спаленные фашистами города и села, взорванные заводы, фабрики, мосты, железнодорожные станции, насмотрелся на голодных ребятишек, на безруких и безногих, слепых инвалидов войны. Невозможно, до слез горько было все это видеть. Каждый день, на каждом шагу. Чего же только наделала она, какой беды понатворила — проклятая война! И сколько же надо лет, сколько сил и терпения, чтобы заново отстроить порушенное, возродить сожженное, залечить несчастные раны земли? А души человеческие? Их лечить, возрождать еще трудней. А в памяти людской пролитые кровь и слезы не высохнут, не потеряют своей горечи никогда, сколько бы лет ни прошло после этой страшной войны... Ну, а если ничего плохого не случилось, если жива-здорова Полина, то кто же у нее, кто у нас родился? Сын или дочка?.. Когда думал об этом, хотелось бегом помчаться в село, скинуть солдатские сапоги, в которые меня обули, и чесать бегом, без оглядки, до самой околицы...
Предчувствие мучило меня не зря. Пронесся огонь и над Вербежичами. Спалили немцы село, почти ничего от него не осталось, и после оккупации оно еще только начало отстраиваться. На разоренном подворье увидел я Полину с Авдотьей Ивановной, они что-то копали в огороде. Не уцелели ни дом, ни сарай. Всего несколько деревьев осталось от сада. На месте сарая горбилась маленькая мазанка-времянка. Я постоял у калитки, чтобы немного прийти в себя. Отворил потихоньку. Окликнул Полину.
Она обернулась, ойкнула, уронила на землю лопату и и как закричит в голос:
«Тереша-а!.. Мама, Тереша мой вернулся!»
Раскинула руки и птицей полетела через двор. Упала мне на грудь и заплакала... Подошла Авдотья Ивановна, обняла нас обоих, и по щекам у нее тоже потекли слезы. Я стал их успокаивать:
«Ну зачем так? Чего же вы?.. Теперь плакать не надо. Все уже, все кончилось. Теперь надо радоваться».
А сам гляжу во двор. Где же там еще один человек, самый маленький, которого я еще не знаю, не видел совсем. Почему он меня не встречает?
«Ну, а где он? — спрашиваю Полину. — Кто у нас родился?»
Она залилась еще сильней, даже говорить не могла.
«Никого нету, Тереша. Никто не родился, — сказала мать, утирая слезы. — Гестаповцы убили в ней ребеночка... Нас тоже забирали. Все про тебя пытали, про то, кто убил Кочергу... Продержали три дня, потом выпустили. Вернулись мы домой, и на другой день у Полины это самое... преждевременные случились... Вот, какое горе, Тереша. Не суди ее за это... не суди».
«Били меня. Ой, как били, Тереша! — пожаловалась Полина. — Вот оно и случилось... Ты меня прости. Прости, Тереша!»
Я постарался утешить Полину. Ведь уже ничего нельзя было вернуть...
Мы посидели во дворе на чурках. Потом вошли в мазанку — такую тесную, убогую, с земляным полом, но чисто выбеленную и заботливо прибранную. Полина с матерью накрыли на стол, взялись кормить меня с дороги, а у самих, подмечаю, не только радость, но и печаль в глазах, и они не могут пока мне ее высказать. Я догадался, в чем тут причина, и спросил:
«А что с Любой и Мишей? Ничего про них не слыхать?»
Полина сразу села рядом со мной на скамью, тяжело вздохнула. Авдотья Ивановна убито покачала головой.
«Узнали только про Мишу, — сказала Полина. — Они... его... Когда их повезли в Германию из Людинова, он сбежал от немцев... еще с каким-то пареньком... Ну и ...догнали... На них спустили овчарок... Вот что узнали про Мишу».
«А про Любу, сестренку твою, ничего, Тереша, нету, — печально добавила Авдотья Ивановна. — Ни слуху про нее, ни духу по сей день... Забрали — и все. Такое вот горе, Тереша».
Да, Миша. Как видишь, и радостным, и горьким стал для меня день возвращения в свое село, на ту землю, где я родился, вырос и где до войны был у меня дом, были мать, сестра, брат. От матери хоть осталась могила. От сестры и брата ничего не осталось.
Перед закатом солнца мы сходили на кладбище, на могилу матери и моего боевого друга и командира Сергея Стебелькова. С кладбища зашли проведать Серегину мать… А потом до глубокой ночи, до вторых петухов, сидели в мазанке при керосиновой лампе, и Полина с Авдотьей Ивановной все расспрашивали меня про фашистский плен, про то, где был, что видел, пережил и как смог выжить в таком нестерпимом аду...
На другой день я пошел в колхозную контору, оформился па работу. Опять стал плотничать. Нарадоваться не мог работе, своему инструменту, запаху деревянной стружки. Через неделю мы с Полиной зарегистрировались в сельсовете, стали законными мужем и женой. Я выписал в колхозе лесу, навозил его во двор, и мы втроем начали строить новый дом.
А в начале октября меня арестовали. Приехали трое, забрали в машину-фургон, по названию «воронок», увезли в Людиново и посадили в камеру предварительного заключения. Это для меня, для всей семьи было, как гром на голову среди ясного неба. Я ничего не мог понять.
«За что? — спрашивал. — За что меня арестовали?»
Следователь ответил очень коротко:
«За то, что попал в плен и живым вернулся из плена. Вот тебе весь ответ».
И показал мне мое «дело». Оно было коротюсенькое, тощее — всего на трех листках.
«Подписывай».
Я прочитал. Подписывать отказался.
«В плен я не сдавался. Попал в бессознательном состоянии. Вы же должны знать, я тут был в подпольной группе, мы выполняли задания, немцев били. Командирами у нас были Стебельков и Лесовик. Вы же должны знать...».
Следователь сердито надулся: «Ты нам не указывай. И нас не поучай. Мы все знаем, что нам надо знать. И про тебя — тоже. Ясно? — Потом переменил голос и посмеялся надо мной: — Да куда ты денешься, Сорокин? Все равно подпишешь, как миленький. Так что зря упираешься. Это я тебе авторитетно говорю... А пока посиди в карцере. Подумай».
«За что — в карцер? Я же ни в чем не виноват».
«Это с твоей точки зрения. А с государственной — картина совсем иная, прямо противоположная. Ясно?.. В карцер!»
Допросов было много. Но никаких моих доводов, оправданий не слушали. Не хотели слушать.
Получил я, Миша, то, чего никогда и не ожидал получить. В конце октября судил меня Калужский гарнизонный военный суд. Отвалили пятнадцать годков, с высылкой затем в отдаленные места. Правда, хоть без конфискации имущества, а то бы ни за что ни про что пустил я по миру мою молодую жену и дорогую тещу. Да переписку разрешили, тоже большое дело, не каждому такая поблажка. Тем осталось и утешиться...
4 ноября, утром
Да что там говорить, сын мой Миша. Уж чего-чего, а такого поворота, такого подарочка в моей послевоенной жизни я никак не ожидал. Был оставлен в подпольщиках, дрался с немцами, не дал сломать себя в концлагерях, а оказался врагом своей же страны. Вот как бывает. Ехал семью строить, ребятишек растить, землю нашу засевать и обустраивать, а очутился за решеткой. Ехал в Вербежичи, а попал в Воркуту...
Извини, прервали меня. Врачебный обход...
После обхода добавляю несколько строчек. Выписывают меня домой. Сказали — после обеда можно получить вещи. Выходит — еще маленько поживем!
9 ноября.
Обрадовался я, Миша, прежде времени. Никакого «домой» не получилось. То ли переволновался, то ли по какой другой причине, но после обеда меня хватил такой приступ, что отваживала вся дежурная смена вместе с главврачом. Отходили, как видишь, и на этот раз не дали пропасть. Все октябрьские праздники провел в отдельной палате. И сейчас тут. Как большой начальник. Или генерал какой. Хотели отобрать у меня тетрадки, от них, вишь ты, лишняя, ненужная нагрузка. Не отдал. «Последнее уж не отбирайте. Дайте закончить». Недовольно покривились, но все-таки оставили. Теперь пишу тайком, чтоб никто не видал...
Под Воркутой работал я в шахте. Потом на стройке. Отсюда кинули па перевалочную базу. Тут мы разгружали цемент, лес, кирпич, гравии, речной песок. Работа была тяжелая. Но духом я не пал. Преступником, предателем себя не считал и верил, что несправедливый приговор отменят и скоро я опять буду па свободе, вернусь домой. В письмах убеждал в том Полину. А в Верховный Совет РСФСР послал жалобу с просьбой пересмотреть мое дело. Ответа долго не было. Я послал другую. Опять ничего... Но зато пришло такое волнующее и дорогое для меня письмо от Полины. Она писала, что у нас родился сын, и в память о моем погибшем брате она решила назвать его Мишей. Вот когда ты появился на свет! Когда твой батька находился в «отдаленных местах». И тогда я опять написал в Верховный Совет: мол, как же это так — мальчонка будет расти без отца и по несправедливости его будут считать сыном предателя, врага? Ответа не получил. Ни на эту жалобу, ни на все другие, которые написал за десять лет. Сперва из Воркуты, потом из Вологодской области...
И вот 25 сентября, как сейчас помню тот день, 1955 года вызывают меня в спепчасть. Прямо утром, срочно. С чего бы это, думаю? Вроде бы ничем не провинился. Вхожу. Начальник спецчастп смотрит на меня вполне по-доброму и спрашивает:
«Ну, Сорокин, как твои дела?».
«Как сажа бела, — говорю. — Дела мои где-то там шевелят, а толку нету».
«А на свободу хотел бы пойти?»
«Ну какой же царь отказывался от престола? — я ему. — Готов хоть сейчас, гражданин начальник».
«Кто у тебя есть из родных?» — интересуется он.
«Жена, сын да теща, боле никого. Остальных немцы кончили во время оккупации».
«Ну что же, Сорокин. — говорит начальник. — Счастливые они — твоя жена, сын да теща. Слушай внимательно. — Он взял со стола бумагу. — Вот твое освобождение. Верховный суд республики постановил из-под стражи тебя немедленно освободить. И судимость твоя полностью снята, что я и должен тебе объявить… Все понятно? Вопросы есть?»
Я ничего не мог сказать. Я стоял посреди комнаты и плакал... И уже откуда-то издалека слышал:
«Чего же ты плачешь, Сорокин? Радуйся, что жив остался. Мог ведь и пе дождаться своего освобождения, как многие не дождались... Паспорт выдаем тебе чистый. Поезжай, воспитывай сына. Жизнь у тебя еще долгая впереди».
В полдень я уже был за воротами, на пути к пристани. Мне надо было плыть в районный центр и там получить паспорт. Шел три километра и все не верил, что я на свободе, все озирался, оглядывался. Но никто меня не преследовал и не приказывал вернуться обратно, туда, где был. Вот и река Шексна, а через нее — понтонный мост. Я остановился около перехода и долго смотрел на реку и ее берега, на осеннее небо. И столько простора, чистоты и свежести было кругом, что петь хотелось... Из-за горизонта неожиданно начала надвигаться черная дождевая туча, и как-то неспокойно сделалось у меня на душе. Будто бы это мое тяжелое прошлое, все пережитое опять надвигалось на меня, чтобы придавить к земле и не дать подняться... Но туча прошла стороной, ее растянуло и порвало на клочки. Небо прояснилось. Ярко засияло солнце. И мне стало легко, хорошо, я поверил, что свободен, что еду домой, к своей семье. И словно заново на свет народился.
На другой день я получил паспорт и сразу же выехал в Вологду, а оттуда — в Москву.
9 ноября.
Той осенью, Миша, мы с тобой и увиделись первый раз в жизни. Помнишь? Ты возвращался из школы, а мы с матерью встретили тебя на улице, около магазина. Тебе тогда уже шел десятый год. А до этого, если помнишь, тебе говорили, что отец твой в долгом отъезде, завербовался на Север и зарабатывает там деньги на новый дом. Денег надо много, вот он и подзадержался на далеком Севере. Помнишь ты это, нет?...
Не скрою, Миша, да ты и сам это поймешь, — невесело, ох, как невесело и неуютно стало нам жить в Вербежичах. Горько было ходить мимо того места, где когда-то стоял отцовский дом. Горько вспоминать войну, погибших родных, друзей и товарищей, наши прежние беды. Да было еще и другое. По селу идешь — а на тебе косые взгляды, колючпп шепоток за спиной. Пойдем с Полиной в клуб или в магазин — то же самое. Я все это спиной, затылком чувствовал. Каждый день. Понимаешь? Все нутро от этого переворачивало. Оправдать-то меня оправдали, начисто сняли судимость, как будто ее и не было. Да каждому не будешь документы показывать, и на каждый роток не накинешь платок. Злых языков у нас хватает, они не перевелись и никогда, наверное, не переведутся. Терпели мы все это, терпели и и надумали с твоей матерью переменить место жительства, уехать со своей родины в другие края, где никто нас не знает, и начать жизнь заново. Только вот Авдотья Ивановна сперва не соглашалась, отговаривала нас Я даже хотела одна остаться в Вербежичах. Но потом и она согласилась. «Верно, давайте уедем. Так будет лучше, спокойней».
А тут как раз тетка Полины, родная сестра ее матери, стала звать нас к себе, в Крым. Она уехала туда с мужем из нашего района вскоре после войны, давно обжилась на новом месте, узнала теперь, что я вернулся домой, и в каждом письме уговаривала свою сестру, всех нас перебраться на южный берег Крыма, в Судак. Тут, мол, благодатный край. Теплое море, много солнца и почти нету зимы, а летом и осенью всего вдоволь — овощей, всяких фруктов и винограда. И работы — сколько душе угодно, на выбор. Живи да живи и не вспоминай про все недоброе, обидное, что раньше было. Уговорила нас тетка. Решили мы весны не дожидаться. Уже в начале февраля пятьдесят шестого года стали собираться в дорогу. Распродали из нашего небогатого хозяйства то, что годилось на продажу. Упаковали самые необходимые пожитки н двинули в неведомый нам Крым.
Что было потом, ты, Миша, должен помнить. Как приехали в Судак и первый раз в жизни увидели море. Как поначалу поселились во флигеле у тетки, и мы с матерью поступили работать в совхоз. Как весной зацвело все кругом, заполыхало — душа не нарадуется такой благодати. Как в начале лета нам дали квартиру—половину дома, с огородом, садом и даже с небольшим виноградником. Как завели мы кур, поросенка, собаку, а тетка дала нам рябую телочку. Как мы ходили купаться на море, катались на лодке, рыбачили, приносили домой кефаль и сардинку. А однажды прокатились на катере вдоль побережья до самой Ялты и на обратном пути сделали остановку в Никитском ботаническом саду, где столько диковинных деревьев и кустов. Помнишь. Миша?.. Я всему тому не мог нарадоваться. Думал: вот прожил бы всю жизнь в своих Вербежичах и не узнал бы никогда, что есть на свете этот край, это синее море и вся эта красота по его горным берегам.
Хорошо мы тогда зажили. Я хоть узнал настоящую жизнь. И в доме все было, и во дворе. И на работе — уважение. Я работал в саду, мать — на винограднике. На третий год меня назначили бригадиром. Наша бригада была передовая. Про нас писала районная газета, а один раз — и областная. С матерью твоей мы тоже душа в душу жили. В доме было полное согласие, ни скандалов, ни обид, ничего такого. Думал я тогда: сто лет бы так жить и другого не надо. Радость была, и когда ты закончил десятилетку, поехал в Донецк и поступил в политехнический институт. Но после этого все и случилось, ты же знаешь. И ничего уже нельзя было склеить, поправить в нашей жизни. Что потом говорила тебе про это мать, как все объясняла, мне, Миша, неведомо по сей день. Осуждать ее не хочу, совсем не ради этого пишу. Просто я должен все честно тебе сказать, как на духу. Мне теперь кривить душой нету смысла. Жизнь моя прошла, она кончается, так что врать тебе, сочинять всякую красивую залипуху нету мне никакой выгоды. Да и времени па это жалко, у меня его уже не осталось.
11 ноября.
Ты уехал на учебу — и без тебя в доме пусто стало. Один сын, да и с тем разлучились. Мы же понимали: теперь ты уже — отрезанный ломоть, назад не вернешься. Покуда в институте — еще будешь приезжать па каникулы. А после учебы пошлют по назначению куда-нибудь за тридевять земель, и мы с тобой — врозь на всю жизнь. Такая уж судьба у отцов и матерей... Попервости все у нас ладно было с Полиной, а потом, к весне, заметил я, переменилась она. Сделалась какая-то замкнутая. Меня стала чужаться. К дому своему, ко всем домашним делам потеряла интерес. Пробовал я с пей поговорить — бесполезно, ничего не добился, не выяснил. Только накричала на меня: «Чего пристал? Чего душу мою теребишь?.. Надоело мне все. И хозяйство, и жизнь эта — все надоело!.. И не лезьте мне в душу! Понятно?»
Это она заодно и матери отпела. Авдотья Ивановна тоже пробовала ее стыдить. Она и на мать поднялась, будто это мы с матерью во всем и виноваты... А вскоре дошли до меня бабьи разговоры да пересуды, доползли оскорбительные слухи, что завелся у моей Полины ухажер. Вот так, Тереха, не больше не меньше — ухажер. И кто бы ты думал? Новый агроном нашего отделения. Он появился у нас в середине января. Как говорится — весь из себя. И важный, и гордый, и к тому же — невозможный красавец. Бабы изнывали и охали. Чуб — кудряшками. Глазки масляные. Рыжие усики под носом, он их даже расческой гладил да вспушивал. На правой руке — золотой перстень с печаткой. Одно слово — красавец. Наши быстро прознали про него: бабник широкого профиля и большой любитель тяпнуть в любое время дня и ночи. За эти самые подвиги в соседнем районе его турнули с главных агрономов совхоза. Ну, а к нам перекинули как бы на исправление или на временную отбываловку. Чтобы переждать немного, а потом опять куда-нибудь его выдвинуть. Он же — ценный кадр, институт кончил. И — важная руководящая единица... Выходит, и Полине моей он закружил голову? Когда же успел?
Этим слухам я сперва не поверил. Болтают бабы чего попало, чешут языки от скуки. То одной перемывают косточки с утра до вечера, то другой. Теперь до Полины добрались. Такие они и есть, бабы, их не переделаешь. Да и уши себе не заткнешь. А в уши мне жужжали одно и то же. Кто намеками, а кто и прямо: «Таскается твоя Полина. Дело у них уже далеко зашло. А ты — как зашоренный, ничего не видишь».
Я, конечно, все видел, не слепой ведь был. Полина стала задерживаться на работе, чего не было раньше. Раз. другой, третий явилась под хмельком. Я опять попробовал поговорить с ней, чтобы объяснение се услыхать и как-то ее образумить, удержать от полного позора. Она стала от всего отказываться. Осердилась на меня, давай кричать: «Больше верь бабьим сплетням. Уши развесил! Ему наговаривают, а он слушает. Им самим, тем бабам, охота с агрономом покрутить, вот они и лепят к нему кого попало. Всех по очереди. А ты им верь, сучкам!»
«Ладно, Полина. — сказал я спокойно. — Больше про это не будем. Я тебе всегда верил и теперь верю. Но если обманешь, дорогая моя жена... Смотри. В грех не вводи. Обмана я не стерплю».
Встретил как-то и агронома около склада. Предупредил: «Вот что, красавчик. Если из-за тебя еще будут ходить разные сплетни про мою жену, я тебе рыжие усики живо обрею. Паяльником. Понял?.. И не только усики. Заруби себе на носу».
На какое-то время суды-пересуды поутихли. И Полина не то что лучше стала, а просто, как я понял, затаилась, осторожничать научилась. Тут еще ты на летние каникулы приехал. Ей перед тобой, конечно, совестно было, и она спешила домой после работы, старалась тебе всем угодить. Мать есть мать, что ни говори. А как ты уехал в конце августа — опять все у них заплелось, покатилось по старой дорожке. И чувствовал я — что-то недоброе надвигается, скоро должен быть этому какой-то конец. Работы в те дни было невпроворот. Конец лета — начало осени. Самая пора сбора яблок, персиков, груш, поздних слив, я уже не говорю про виноград, он тогда уродился — на загляденье. Как-то задержался я в саду дотемна. С последней машиной доехал до склада. На территории уже не было ни грузчиков, ни весовщиков. Но в главном складе горел свет. Я пошел туда. И в дальнем углу, за штабелями ящиков, застал небольшую теплую компанию. Две бабенки, одна из них — весовщица, другая — моя Полина. И два мужика — завскладом и усатый красавец, как ты понял — наш удалый агроном. Перед ними, на опрокинутых ящиках и на низких больших весах, была разложена закуска, стояли бутылки с вином н водкой, граненые стаканы. Полина как увидела меня — вскочила, сразу покраснела вся, растерялась.
«Ой, Терентий? Это ты? Никак за мной. А мы...»
«Нет, — ответил я. — Не за тобой. По своим делам заехал». Она давай платье на себе одергивать, косынку поправлять, вертеться да виновато улыбаться: «А мы тут посидели немного после работы. Так, чуть-чуть. Выпили вина по стаканчику... Все, я готова, идем домой».
Агроном остановил ее: «Погоди, Полина, не спеши. Мы и муженька твоего угостим, да. Мы люди компанейские, запомни, Сорокин... Чего стоишь? Подсаживайся.. Сам тебе налью. — Набулькал почти полный стакан водки и протянул мне. — Причащайся. После работы — сам бог велел».
«Не буду, — отказался я. — Захочу — найду с кем и где выпить. А сейчас не буду... Пойдем, Полина».
Он встал. Его покачивало. Видно было, что пропустил он, конечно, не стаканчик и даже не два.
«Нет, постой... А со мной, значит, не хочешь? Компания не та? У тебя, значит, своя компания?»
Он еще что-то молотил, все подначивал меня да гоголем поглядывал на Полину, она молчала и жалко так, униженно улыбалась. А я ему сказал, что обойдусь без его компании, без его угощения. Это его сильно скорбило. Усы у него задергались, рот перекосило, глаза налились еще больше.
«А у тебя своя, что ли? Знаем, какая у тебя компания. Зэки — вот она, твоя компания. Ну и чеши к ним отсюда, к своим зэкам».
Эх, Полина, Полина! Не знаю, как она тогда со стыда передо мной и от предательства такого не остолбенела на месте или сквозь землю не провалилась. Никто же тут, в совхозе, пи слухом ни духом не догадывался, что я попадал в колонию, безвинно отбывал срок, паспорт же у меня был чистый, и на работу меня приняли безо всякого, на равных со всеми. Выходит, Полипа все выболтала этому своему... Значит, верно—дело у них далеко зашло, дальше некуда. Эх, Полина! И после этого ты жена мне. самый близкий человек в жизни? Когда же это случилось? Когда ты стала такая — чужая баба, враг мне? Нестерпимая обида взяла меня, чуть не до слез. Будто обухом оглушило. Стою — и поделать ничего не могу, и не знаю, что говорить, как за себя заступиться. Может, и стерпел бы все, не допустил скандала. Но агроном подлил горючего в огонь: «Ладно, зэк, не мешай нам. Освободи помещение!»
И выплеснул мне водку в лицо.
Я уже ничего не помнил. Сгреб его за грудки. Женщины кинулись нас разнимать. Уже почти разняли. Но через их головы он достал меня. Не то дощечкой от ящика, не то рейкой какой-то шваркнул. Рассек ухо и левую скулу. И тут уж я не сдержался, влепил ему под салазки. Он откинулся назад, зацепился за что-то, заплелся ногами и упал боком. И не поднялся... Он ударился виском об угол железных приземистых весов...
И опять, Миша, я оказался там, куда Макар телят не гонял. Только в другом конце страны—в Сибири, аж в Забайкалье. Да по уголовному делу. Вот как жизнь опять переломила меня через колено. Срок мне дали большой. Как за умышленное убийство (я же ему угрожал, говорила на суде жена агронома), да еще руководящего лица, да еще при исполнении им служебных обязанностей. Авдотья Ивановна очень за меня переживала, наняла защитника, это была молодая женшина, не опытная еще и несмелая. Ничего она доказать не сумела, переквалифицировать мою статью не смогла. Сколько прокурор потребовал, столько и влепили.
Не подумай, Миша, будто я считал себя совсем не виноватым. Человека-то ударил я, а не кто-то другой. Но чтобы так — напрочь, до смерти, я, конечно, не хотел, злого умысла не имел. Я честно сейчас это говорю. И тогда, на суде, говорил, да в счет это не взяли, мне не поверили... Понятное дело, с матерью твоей у нас, конечно, с тех пор все сломалось. Раз и навсегда. А вот что тебе в институт не написал из Забайкалья — ты меня, сынок, за это прости, если можешь. Не хотел я портить тебе учебу и всю дальнейшую жизнь, поверь. Не хотел, чтобы кто-то увидел, по конверту узнал, что твой отец пишет из «почтового ящика», из колонии. Добра бы это тебе не принесло.
Ну, а там я что? Сперва попробовал — написал жалобу. Пришел отказ: оснований для пересмотра дела нет. И тогда я всем попустился. Как припаяли — так и ладно, влип, заслужил — отбывай, Сорокин, видно, такая уж твоя судьба. Нюни, правда, не распускал. Работал по своему плотницкому делу. Когда только можно было — читал. Опыт уже был. По Воркуте. Много читал разных книжек, ума набирался. Так прошло четыре года... А потом у нас в колонии появился новый замполит. Внимательный, толковый такой. Почему-то он заинтересовался моим делом. Вызвал меня. Подробно все расспросил, больше часа со мной разговаривал. Про плен, про Бухенвальд и Дахау тоже спрашивал. Сказал: «Отец мой был в Освенциме. Домой вернулся инвалидом... Умер несколько лет назад». А потом посоветовал мне обратиться с жалобой к прокурору республики, а то ведь под лежачий камень вода не течет. Может, замполит к моей жалобе и от себя чего добавил, умный оказался и справедливый мужик, век буду его благодарить. И что ты думаешь? Через три месяца пришла бумага из высоких инстанций. Дело мое пересмотрели и решение суда отменили. Меня реабилитировали. И верил я, и не верил, да это было так, было наяву...
Освободился. Миновала и эта беда. Куда податься? Что делать дальше? Где жить?.. Из Забайкалья решил не уезжать. Дома, семьи у меня не осталось, к тебе в приживалы никогда бы не попросился, да и не хотел вставать между тобой и матерью. Мне теперь было как-то все равно, где жить, век доживать. А Забайкалье мне стало даже нравиться. Лесистые сопки, крутые каменистые увалы, широкие пади с речками и покосами. Открытое, высокое небо. Простор. Весной и осенью гуси, утки, журавли, чайки, дикие голуби на пролете. Поглядишь им вслед — и сердце отчего-то забьется, забьется и защемит, как в молодости когда-то бывало... Выбрал я для житья один небольшой поселок среди сопок. Поступил на рудник. Стал работать под землей (тоже опыт был), добывать плавиковый шпат. За десять лет и заработал себе силикоз. Из-за него стал валяться по больницам. К этому добавилась еще и стенокардия. Теперь, видно, болячки взялись меня совсем доконать.
Может, спросишь: один ли я жил все эти годы в Забайкалье? Нет, не один. Женился на доброй и заботливой женщине. Здешней, горнячке, гуранке. Она много лет была вдовой, вырастила двух дочерей. Старшую выдала замуж сама, та живет в Иркутской области, в Ангарске. Младшую мы выдавали уже вместе, за инженера нашего рудника. Два года назад я опять остался одни. Схоронил свою вторую жену, а дочь с зятем получили в поселке, в новых домах, благоустроенную квартиру. Так что один я в своем просторном доме, как перст. И мотоцикл у меня с коляской. На охоту, на рыбалку ездил, когда здоров был, пока еще сила была. Теперь отъездил, отохотился и отрыбачил. Дочь с зятем проведают меня в больнице, не забывают, спасибо им. Чужой же я для них — никто, можно сказать, а не забывают. Приезжал два раза и сосед мой, Илья. С ним мы раньше каждый выходной, а то и по праздникам бегали в тайгу или в степь, на реку Онон. Посидим с Ильей в больничном коридоре, поговорим про международную политику, про космос, повспоминаем наши прежние охотничьи, рыбацкие удачи — и то легче на душе. И подумаешь: нет, неохота помирать, пожить еще надо, поглядеть на наш мир, увидеть, каким он будет, какими станут люди, что они еще наиридумывают, наизобретают и что научатся понимать в жизни...
12 ноября.
Вот, Миша, и все. Сдается, высказал, что хотел, что давно тяжелым грузом лежало на сердце. Больше писать вроде бы не о чем. И сил, запала уже нету, догорел запал. Да я и не собирался так длинно описывать свою жизнь, само как-то получилось. Извини, что заставил все это читать, столько времени у тебя отнял.
Завтра день свиданий. Обещался приехать Илья, привезти мне жареного леночка, душу рыбацкую порадовать. Ему, Илюхе, и передам эти свои тетрадки. Пускай хранит, никому не показывает. А потом тебе их перешлет.
Потом, когда срок настанет.
Прощай, Миша. Прощай, сынок!
Твой неудачливый батька Терентий Сорокин.
Октябрь ноябрь 197... года.
Последнюю страницу тетрадей я дочитал перед утром. Но уснуть уже не смог, сколько ни старался. Не спадало какое-то напряжение во всем теле, стучало в висках. Перед глазами плыли строчки, строчки, строчки... возникали картины, проходили события той необычной, такой сложной и поразительно нелегкой жизни, что неожиданно, но чистой случайности открылась мне. Я смотрел в темноту ночи — как будто в ту, последнюю войну, как будто в прошлое — и пытался представить себе того человека, который все это написал, оставил, представить его облик и голос, всю стать, и проникался к нему все большим уважением, доверием и состраданием. Так захотелось увидеть его, поговорить с ним и поклониться его мужеству. Если это, разумеется, возможно, если еще не поздно...
II вот опять загудели, побежали но улице первые троллейбусы. Спать уже было некогда. Я полежал немного, потом встал, оделся, стараясь не разбудить жену и сына. Пошел на кухню, поставил чайник на газовую плиту и начал собираться в школу. А сам невольно, не замечая того, все посматривал на две сшитые общие тетради, что лежали на краю стола. Признаться, мне совсем не хотелось уносить их, кому-то отдавать. Я был бы очень рад, если бы они остались у меня навсегда... Но тетради предназначались и до сего дня принадлежали другому человеку, ему я и должен был их вернуть...
От жены я получил выговор за то, что всю ночь просидел на кухне. В школу пошел с красными глазами, тяжелой головой и невеселыми мыслями. После занятий я оставил в классе Олю Сорокину. Сел напротив нес за парту, показал тетради и спросил:
— Скажи, пожалуйста, ты вчера сама взяла из дому эти тетради или тебе родители дали их вместе с журналами?
Оля смутилась, не понимая, видимо, почему я об этом спрашиваю, и ответила сбивчиво:
— Я... тетради? Вот эти?.. Нет, не сама. Они так лежали... вместе с журналами... Я и взяла.
— Может быть, по ошибке взяла?
— Не знаю. — Оля недоуменно посмотрела на меня.
— А папа видел, как ты уносила тетради?
— Нет... Меня мама провожала в школу.
Ну вот, я так и предполагал. Тетради могли попасть в одну стопку с журналами по ошибке или случайно — без ведома их хозяина. И я сказал Оле:
— Я бы очень хотел поговорить с твоим папой. Попроси, пусть он завтра придет, если сможет, в школу. К этому времени, к концу уроков. Хорошо?
Оля виновато опустила голову.
— Нет-нет, ты ничего не думай, — успокоил я ее. — Ты ничего плохого не сделала, ничем не провинилась. Я хочу поговорить с твоим папой о другом. У нас будет свой, не школьный разговор... Передай, пожалуйста, мое приглашение.
—Хорошо, передам, — пообещала Оля, повеселев. — До свидания, Николай Андреевич. — И выпорхнула из класса...
На другой день Оля подошла ко мне на первой перемене и сказала, что сегодня ее папа не сможет прийти, он очень занят в институте, а придет завтра.
— Хорошо, Оля. Спасибо. Я подожду.
Назавтра Олин папа тоже не пришел, но я на него не был в претензии. Человек он, Михаил Терентьевич, и верно — занятый, кандидат наук, доцент политехнического, каждый день у него лекции, консультации, лабораторные занятия, общественные дела. Выкроить свободный час ему, конечно, не так-то просто. В школе он был дважды — когда дочь пошла в первый класс и когда его закончила. Мне он запомнился: среднего роста, плотный, круглолицый; темные гладкие волосы зачесаны на правую сторону; спокойно-уравновешенный, немного жестковатый взгляд уверенного в себе и знающего себе цену человека; походка, все движения неторопливы, расчетливы, голос густой и чуть глуховатый.
Встретились мы на третий день. После занятий, как только ребята высыпали из класса, я увидел его в коридоре, дочь уже стояла рядом с ним. Я вышел в коридор, поздоровался с ним и пригласил в класс.
— Подожди меня здесь минутку, — сказал он дочери и пошел за мной.
Мы сели у стола, друг против друга. Тетради лежали рядом со мной, завернутые в газету. Лицо его было неподвижно, взгляд сух, официален. Он ничего не спрашивал, ждал, что скажу я. Понимаю — никому из родителей не доставляют радости вызовы в школу — любые, чего бы ни касались они. Явно не вызвало восторга это приглашение и у Олиного отца. Поэтому мне тоже пришлось быть с ним несколько официальным.
— Извините, Михаил Терентьевич, — начал я, еще не зная, не догадываясь, как он воспримет мой вопрос и весь наш разговор, — что оторвал вас от работы, от институтских дел. Я пригласил вас не по поводу успеваемости или поведения вашей дочери. Оля хорошая девочка. Учится старательно и ведет себя хорошо. У меня другой, несколько деликатный вопрос.
— Да, я вас слушаю, — сухо произнес он и рассеянно, как-то отсутствующе посмотрел в окно.
— Простите заранее, что я оказался посвященным в это. Тут виновата чистая случайность, я вам даю честное слово.
— О чем это вы? — в серых глазах его затеплился, слегка проявился интерес.
— Наша школа собирает макулатуру. Наш класс — тоже. Три дня назад ваша Оля принесла стопку старых журналов и газет.
— Помню, она просила об этом, — подтвердил Михаил Терентьевич. — Ну и что же? — В его вопросе было явное недоумение, даже ирония, угадывался и другой вопрос: «Из-за такого пустяка стоило отрывать у меня время?»
— Дело в том, — как можно деликатней сказал я, — что Оля принесла стопку прямо в класс. И среди этих журналов оказались тетради с записями вашего отца.
— Да? — Во взгляде, в голосе — удивление и досада. — Неужели?
— Вот эти. — Я развернул газету, положил тетради на середину стола.
Он мельком,равнодушно глянул на тетради, потом — с холодным прищуром — на меня. Лицо его выразило откровенное недовольство — то ли мною, то ли своей дочерью. Но он взял себя в руки и понимающе улыбнулся:
—Ничего сверхъестественного в этом не вижу. Лежали где-нибудь в одном углу, вот вместе и оказались. Вполне допускаю. Хотя... к этому я не причастен. Это они там с матерью, без меня хлопотали. — И добавил подчеркнуто: — В такие их дела не вмешиваюсь.
Я уже почти раскусил Михаила Терентьевича, но захотел выяснить все до конца:
— Мне попались на глаза эти тетради, и я подумал: может, они угодили в макулатуру по ошибке, но недоразумению? Вот и решил вам их показать... вернуть.
Михаил Терентьевич поправил галстук — синий, в белую горошину, — помолчал, подбирая, видимо, ответ поудобней, и только потом сказал:
— Возможно, и по недоразумению... Но это теперь не важно. Раз они попали в макулатуру — значит, ценности уже не имеют.
— Но мне показалось — это нельзя выбрасывать. Это же... такой человеческий документ, в нем такая судьба... Это не подлежит уничтожению... Извините, но я не удержался, чтобы не прочесть. Заглянул — узнать, что это такое, и уже не смог оторваться. Еще раз извините.
— Да ради бога! — отпустил мне мой грех Михаил Терентьевич. — Секрета это не представляет. — Он приоткинулся на стуле, развел руками и слегка, одним уголком рта, усмехнулся моей наивности. — Но только почему же это, как вы считаете, не подлежит уничтожению? Обычные записки, заметки пожившего человека, которому некуда было девать время, в чем вы сами могли убедиться... Все постепенно ветшает, дорогой Николай Андреевич, все в конце концов приходит в негодность и выпадает из жизни, из повседневного обихода. — Он приостановился, чтобы убедиться, достаточно ли внимательно я его слушаю. — Самый крепкий, выносливый металл — и тот постепенно изнашивается, ветшает, превращается в отработанный материал, обыкновенный лом. Точно так же ветшают, превращаются во вторсырье и многие наши мысли, суждения, выводы, умозаключения и даже — крупные идеи, которые еще недавно казались нам бесспорными. Диалектика, Николай Андреевич. Никуда от этого не денешься, дорогой мой.
Похоже, Михаил Терентьевич входил в роль. Он был старше да, наверное, и эрудированней меня, все-таки — кандидат наук, и теперь мягко, но недвусмысленно подчеркивал это свое превосходство. А я, должно быть, выглядел перед ним не очень искушенным в дискуссиях студентом, который плоховато подготовился к зачету или собеседованию и вместо серьезного разговора, построенного не на эмоциях, а на жестких, неопровержимых доказательствах, преподносит какой-то невразумительный лепет.
— Но ведь это же — письма отца, — вежливо заметил я.
— Ну и что же? Из этого еще ничего не вытекает. — Невозмутимо ответил он. — Этим, Николай Андреевич, умиляться не нужно. Само звание «отец» еще ни о чем не говорит. В каждом конкретном случае оно заключает в себе вполне определенный, совершенно конкретный смысл. Разве не так? Ну вот... Что касается моего отца, раз уж мы завели об этом разговор, то я вам должен сказать следующее. Мы были с ним в жизни — конечно, в силу определенных обстоятельств, как вы понимаете, — каждый сам по себе. как... две параллельные линии. А они, хорошо известно, никогда не пересекаются. Так, по крайней мерс, утверждает школьная программа по сему предмету. Верно? Ну вот. — Это сравнение взбодрило Михаила Терентьевича, придало еще больше уверенности его рассуждениям. Он заулыбался и заговорил с легкой небрежностью, он уже не хотел меня слушать и рта не давал мне раскрыть, говорил один, говорил веско и убежденно, как с кафедры: — Если хотите знать, Николай Андреевич, я вообще не принадлежу к той категории людей, которые склонны идеализировать взаимоотношения детей со своими родителями, возводить в какую-то немыслимую степень. В наше время на это пора смотреть проще, трезвее, без лишних восторгов, умилений и, тем более, — ненужных трагедий. Как достоинства, заслуги, так и недостатки или пороки наших отцов сегодня мало кого интересуют. Когда я что-то делаю, в чем-то себя проявляю и утверждаю, никому, уверяю вас, нет дела до того, кто были, где крестились и учились мои отец и мать, а тем более — дедушка с бабушкой. Общество оценивает меня, а не мою родовую принадлежность. Обществу важно, что стою я как личность и что умею как функционер, а не то, кем был и чего достиг мой отец или чего не сумел достичь. Это только во времена Пушкина. Тургенева. Толстого безродному да безденежному не было доступа в высший свет, в большие интеллектуальные сферы. Критерии нашего времени — совсем иные. — Михаил Терентьевич сделал паузу, словно взвешивая все сказанное и готовясь добавить к этому нечто еще более значительное. Подумал, глядя куда-то в сторону, набрал воздуха грудью и самодовольно изрек: — Если до конца быть откровенным, то мне, — да не только мне, но абсолютному большинству из нас. я в этом убежден, — совершенно безралично, кто были отцы у Пушкина, Чайковского, Эйнштейна, Циолковского, Королева. Мы воспринимаем и ценим только самих этих людей. их гений, их наследие. Все остальное для нас — необязательная, излишняя информация, для которой уже не остается в наш технический век ни времени, пи места в голове. Разве не так?.. А что уж там говорить о рядовых смертных, рядовых наших предках. — Он проницательно и не без высокомерия посмотрел на меня. — Вот вы сами, положа руку на сердце, признайтесь... нет, не мне, а себе самому, — много ли вы знаете, помните о своих дедушке и бабушке, прадедушке с прабабушкой? Не думаю, что много. Так же, как любой из нас. Тут мы почти не отличаемся друг от друга. Дальше дедушек да бабушек наша память не простирается. Верно? Ну вот. Зачем ей — дальше? Она и так перегружена. Это нам не интересно, не нужно, потому и не знаем, не помним... Вот так, дорогой Николай Андреевич.
Скрестив ладони, он положил их на стол: давал понять, что лекция окончена и время его пребывания здесь истекло, давно ждут куда более важные дела, от которых его оторвали из-за сущих пустяков и вынудили так долго доказывать совершенно очевидные истины.
— Мне так не кажется, — сказал я. — Видимо, у нас к этому разный подход.
— Вполне допускаю, — снисходительно кивнул Михаил Терентьевич. — Да мне. признаться, даже любопытно услышать на сей счет... и по всякому другому поводу и иное мнение, отличное от моего или общепринятого. Всегда интересно встретить исключение из правил. Это я вам говорю вполне искренне.
— Благодарю за комплимент, — сказал я, не веря, впрочем, в его искренность.
Он встал, сделал шаг от стола, чуть наклонился.
— Если я вам больше не нужен, то...
— Да, конечно, я вас больше не задерживаю... Спасибо за беседу. — Я тоже встал. — Вы помогли мне кое-что понять, увидеть как бы другими глазами. Благодарен вам за науку.
— Ну-ну, что вы! Пустяки, — с наигранной любезностью и неловким кокетством обронил Михаил Терентьевич. — Какая это наука? Даже близко ничего нет. Я признаю только точные науки, только то, что можно выразить в стройных цифрах и осязаемой форме. Все остальное — говорильня, дым и мишура... Да.
Он сделал небрежный жест рукой — так, что блеснуло на пальце широкое обручальное кольцо, с печатью усталости на лице раскланялся и вышел из класса. Высокие каблуки модных импортных ботинок четко отстучали его уверенный, настойчивый шаг.
Тетради остались лежать на столе.
Еще через несколько дней в школе объявили итоги сбора ребятами макулатуры. Мы ликовали: наш класс оказался победителем среди всех вторых. За это нам подарили воскресную экскурсию по городу в сверкающем, просторном автобусе «Икарус» да еще и с остановкой на обед в кафе «Лакомка», где подают шоколадное мороженое. Но увлекательную, радостную поездку мы совершили уже без Оли Сорокиной. Незадолго до этого отец перевел ее в другую школу.
|